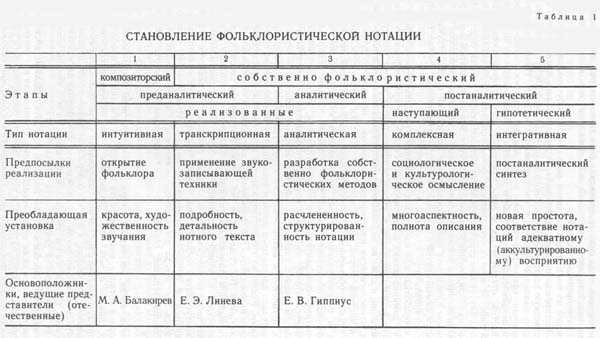

Электронная версия* книги «Нотная запись народной музыки: Теория и практика» – М., 1990
Чтобы разобраться в противоречиво-сложной современной практике нотирования народной музыки и наметить перспективу возможного выхода из кризисной ситуации в этой жизненно важной для фольклора и фольклористики сфере, не обойтись без того, чтобы попытаться выявить и описать специфические черты фольклористической нотации, отчётливее всего обнаруживающиеся при рассмотрении её исторически менявшихся задач и функций. Сделать это можно, лишь оценив под разными углами зрения пройденный ею путь.
В истории нотной записи фольклора можно выделить три пройденных этапа. Первый из них охватывает обширный период от начальных опытов нотной записи народных напевов, опытов, имеющих у нас уже почти трехвековую историю (на Западе — ещё более длительную), и вплоть до последних десятилетий XIX века. Период этот совпадает с безраздельным господством слуховой записи (непосредственно с голоса певцов или по памяти) и по существу не может быть назван фольклористическим в собственном смысле слова, поскольку слышание фольклорного материала, как правило, было ориентировано не на его специфические особенности, а на общемузыкальную ценность, то есть было, так сказать, общемузыкантским. Характер нотаций этого времени определялся прежде всего потребностями и ориентацией композиторской творческой практики. Принципиальное отличие музыки устной традиции от композиторских опусов в лучшем случае лишь смутно угадывалось, интуитивно ощущалось, но отчётливо не формулировалось. Это отнюдь не означало, что не предпринимались попытки теоретического её рассмотрения, однако используемый при этом аналитический аппарат практически мало чем отличался от общепринятой музыкальной теории. Психологической доминантой первого поколения нотировщиков народной мелодики было преклонение перед её красотой, поиск и, соответственно, нахождение шедевров народного песенного гения, воспринимаемых в одном ряду с лучшими композиторскими творениями. И потому несущий в себе безраздельно господствующую теорию и эстетику композиторской, опусной музыки первый период нотирования музыкального фольклора можно без большой натяжки назвать «композиторским». Не случайно едва ли не наиболее яркими его представителями были именно компози-торы. В России — это Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский, Лядов, но особенно М.А. Балакирев, сборники которого справедливо расцениваются как высшее интуитивно-слуховое постижение характера и духа русской песни 1.
Существенные перемены принесло в нотирование народной музыки появление звукозаписывающей техники. Внедрение в собирательскую практику фонографа, а затем и магнитофона, позволяющих фиксировать и многократно воспроизводить практически любые звучания, породило ощущение доступности для нотирования образцов, принадлежащих весьма сложным мелодическим культурам, в том числе и далеким от европейской академической музыкальной традиции. При этом психологическая установка нотировщиков непроизвольно сместилась с «красоты» на «подробность» письменной фиксации. Цениться среди фольклористов стали прежде всего предельно детализированные нотации, призванные раскрыть неповторимые особенности каждой конкретной мелодической культуры. Не случайно представители нового направления часто стали называть свои нотации «расшифровками» или «транскрипциями», а самый процесс нотирования народных мелодий — «транскрибированием» 2. Очевидно, и нам имеет смысл назвать преобладающий тип нотаций второго периода «транскрипционным».
Однако убеждение, что тщательная фиксация все более тонких внешних деталей звучания будет способствовать объективному раскрытию содержательных, внутренних моментов фиксируемой таким способом музыки, оказалось в значительной мере обманчивым. Погоня за скрупулезной точностью фиксации внешних проявлений фольклорного мелоса нередко заводила в тупик, поскольку излишне детализированные записи способствовали снятию едва ли не главного, интегративного момента нотации, выявляющего содержательную сторону мелодики через обобщение деталей. Здесь можно было бы привести немало примеров подобных «тупиковых» нотаций, загромождённость которых сверхточными подробностями делала невозможным их непосредственное осмысливающее чтение.
«Объективность» нотирования с фонографически закреплённого звучания оказалась во многом иллюзорной, поскольку уверовавшие в неё представители нового периода в развитии фольклористической нотации в большинстве своём пытались осмысливать нотируемый материал по существу с тех же самых теоретических оснований — с позиций общеакадемической теории музыки. В этих условиях возможность многократно возвращаться к одному и тому же технически закреплённому звучанию сама по себе ещё не делала его восприятие более адекватным, полнее соответствующим внутренним нормам его организации, которые могли быть достаточно далеки от общеевропейских стандартов. Скорее даже наоборот. Получая возможность многократно перепроверить себя, нотировщик часто непроизвольно утверждался в «очевидности» и «общезначимости» своего слышания, лишь ещё надёжнее закрепляя заранее сложившийся стереотип. Нарастание точности «расшифровок» в этих условиях оказывалось во многом ка-жущимся, ибо эти расшифровки зачастую покоились на заведомо неадекватном теоретическом основании.
Увлечение тонкостями «микродетализованных» нотаций оказалось недолгим. Их громоздкость, переусложнённость и явная избыточность потребовали внесения внутренней упорядоченности. Из произвольной, неосмысленной избыточности транскрипционного подхода родилась потребность в аналитическом структурировании. С логической неизбежностью должна была зародиться аналитическая нотация,наступить новый, третий период в развитии музыкальной фольклористики.
Какие устремления руководили поисками третьего поколения фольклористов-нотировщиков? Прежде всего — желание обнаружить общие законы, управляющие организацией народной музыки в отличие от норм композиторского искусства, отделить основное от второстепенного в мелодике, «скелет» от покрова, и выработать приёмы внесения графической упорядоченности в нотный текст. Ключом к такому его упорядочению для песенных жанров стало соотнесение поэтического текста и напева, выявление «согласий слова и мелодии» (Е.В. Гиппиус). Одним из ведущих методов фольклористики явился метод слогоритмического анализа, а главным инструментом графического упорядочения нотаций — синтаксический ранжир.
Здесь не имеет смысла углубляться в существо названных методов и приёмов. Оно описано в специальной литературе и будет прояснено в последующем тексте, поскольку обоснование современных требований к фольклористическим нотациям является одной из главных задач данной работы. Необходимо только подчеркнуть особое значение для выработки принципов аналитического нотирования исследовательской и редакторской деятельности Е.В. Гиппиуса, целеустремленно отстаи-вавшего эти принципы при публикации разнонационального фольклорно-песенного материала. К дальнейшему совершенствованию этой методики постоянно стремился и автор настоящей работы, редактируя сборники уже упомянутой серии «Из коллекции фольклориста».
Хотя и сегодня большинство фольклорных нотаций продолжает оформляться и публиковаться по старинке — вне синтаксического ранжирования,— можно считать, что аналитический тип нотировки в целом утвердил своё превосходство над предшествующими способами нотирования и даже успел обнаружить некоторые издержки при слишком прямолинейных попытках своего утверждения.
Известная ограниченность сугубо аналитического подхода к народной музыке начинает обнаруживать себя прежде всего в излишней специализированности нотаций, их адресованности прежде всего профессионалам-фольклористам. Широкому кругу читателей многие из них не более доступны, чем переусложненные подробностями «транскрипции» предшествующего этапа. И это — несмотря на сознательную установку на выявление внутренней структуры текста путём последовательного его сегментирования. ёБолее того, когда аналитическое препарирование, расчленение текста становится самоцельным, оно невольно формирует подчеркнуто аналитический же способ его прочтения. Читатель принуждается воспринимать музыкальный текст как бы «по слогам». Континуальная природа музыкального звучания, и без того трансформируемая подчёркнуто дискретными нотными знаками, ещё больше отступает в тень и целостное ощущение её, столь необходимое для верного восприятия мелодического процесса, неоправданно затрудняется.
Другой ряд сомнений возникает при попытках универсализировать наработанную аналитическую методику, приложить её к любому музыкально-фольклорному материалу. Вполне корректные приемы структурирования — всегда результат исследования конкретных музыкальных культур, их исчерпывающего теоретического осмысления. Даже и в пределах одной культуры различные пласты, жанры и стили не всегда поддаются единообразному препарированию. Тем более непродуктивен прямой перенос аналитических методов, сложившихся при изучении одних культур, на другие культуры, где основания для структурирования могут быть совсем иными.
По-видимому, и аналитическая нотация, в том виде, в котором она сложилась в настоящее время, выполняет задачи лишь определённого этапа в становлении музыкальной фольклористики. Беспристрастная оценка её бесспорных — на фоне предшествующего нотировочного опыта — достоинств, с одной стороны, и критическое осознание вновь обнаруживающихся несовершенств — с другой, уже сейчас позволяют предугадывать основные направления предстоящей поисковой дея-тельности нотировщиков и постепенно вырисовывающиеся контуры наступающего постаналитического этапа.
Было бы, очевидно, преждевременным уже здесь и сейчас — до углубленно-теоретического рассмотрения всего комплекса фольклорно-нотировочных проблем — пытаться чётко сформулировать основные направления и главные задачи предстоящих поисков, а тем более — стремиться предвосхитить конкретные решения ещё недостаточно откристаллизовавшихся проблем. Однако высказать самые предварительные и общие соображения на этот счёт имеет смысл, поскольку наметки на будущее, пусть очень приблизительные и небесспорные, всегда в какой-то мере помогают вернее оценить прошлое и разобраться в настоящем.
Как представляется, ключевыми для постаналитического нотирования народной музыки должны будут стать следующие три проблемы: 1) отражение континуального начала фольклорного мелоса, 2) построение многоосновной теории, охватывающей реальное разнообразие фиксируемых устно-музыкальных языков; и 3) разработка новых методов интеграции содержательных моментов звучания в нотном тексте. Чрезвычайная сложность этих задач — вне сомнений; вполне очевидна и их глубинная взаимосвязанность. И всё же нелишним будет, наверное, понемногу сказать здесь о каждой из них в отдельности.
Когда аналитическое расчленение становится главной заботой нотировщика и выявляемая в нотном тексте структура высказывания начинает превалировать, оттесняя на второй план непрерывность и текучесть мелодического процесса, непосредственная выразительность и содержательная глубина свободно льющейся народно-песенной мелодики терпит существенный урон в восприятии читателя. Чрезмерная «кристаллизация» нотно-графического решения может даже стать препятствием для легкого и непредвзятого чтения. Структурная чёткость нотации должна восполняться поисками гармоничной формы отражения процессуальной стороны музыкального мышления. Одной лишь архитектонической выверенности отдельных его моментов и этапов, по-видимому, недостаточно. Сквозь графически выверенный и упорядоченный текст должна сквозить континуальная природа изустного музицирования. Без этого невозможно сохранить и передать в нотах дыхание живой музыкальной мысли.
Вот почему аналитическое препарирование текста должно стать необходимым, но промежуточным этапом оформления фольклористских нотаций. Одним же из конечных критериев верности нотного решения уже и сейчас может стать, пусть пока ещё во многом интуитивное, ощущение естественности и удобства расположения музыкального материала на нотных строках. Возможно даже, что перевод живого звучания народной музыки в нотнографические построения надолго, если не навсегда, останется не только предметом науки, но и проявлением особого мастерства, а каждая удачная нотация — не только продуктом аналитического ремесла, но и произведением своеобразного искусства графической нотописи. Типологическая обусловленность любых проявлений народного музыкального сознания, так или иначе закрепляемых традицией, вовсе не отменяет необходимости каждый раз искать и находить индивидуальное нотировочное решение, способное запечатлеть неповторимость конкретного устно-творческого акта. Тем более очевидным это становится при столкновении с существенно различающимися между собой фольклорными традициями.
Сегодняшние музыкальные горизонты фольклористики — горизонты историко-этнические и географические, стадиальные и региональные, стилевые и жанровые — существенно раздвигаются. В сферу фольклористического нотирования вовлекаются всё новые бесписьменные традиции, и арсенал нотировочных приёмов не может в связи с этим не пополняться. Это было бы само по себе не так уж и плохо, если бы приёмы эти не вступали в противоречие друг с другом. Неизбежность же противоречий в этой, казалось бы, чисто технологической сфере, проистекает от несоотнесённости, а порой и несовместимости теоретических оснований, опираясь на которые эти нотировочные приёмы рождаются. Каждый фиксирующий приём в конечном счете есть отражение определённого представления о сущности фиксируемого явления. Вот почему продвижение музыкально-теоретической мысли не может не находить отражения в нотировочной практике, а дальнейшее совершенствование фольклористической нотации попросту немыслимо без соответствующих теоретических разработок.
Теперь мы уже не можем не исходить из реального множества параллельно и независимо существующих музыкально-языковых систем, организован-ных по радикально несовпадающим нормам. И было бы нереалистичным по-прежнему стремиться свести эти нормы к единой логике музыкального выражения, понять и объяснить их в едином ключе теории, сложившейся на материале одной или нескольких близких музыкальных культур. Всё чаще мы являемся свидетелями появления новых теоретических концепций, обобщающих практику конкретной му-зыкальной культуры. Но не менее часто мы убеждаемся и в неприложимости этих концепций к широкому кругу иных музыкальных традиций. Непродуктивность экстраполяции любой из таких, по существу одноосновных теорий на весь противоречиво-многообразный и всё расширяющийся круг музыкально-языковых явлений становится все очевиднее. И выход из сложившегося положения начинает просматриваться в необходимом согласовании и гармонизации наработанных теоретических подходов, в создании своего рода многоосновной «метатеории».
Построение единой многоосновной музыкально-фольклористической теории, и только оно вновь сделает обоснованными претензии пятилинейного способа нотации на универсальность. Ведь некогда сами собой разумеющиеся претензии эти в наш век нередко ставились под сомнение — и не только в связи с деятельностью фольклористов. Независимой от фольклора и не менее основательной причиной кризиса пятилинейного письма явилась стремительная стилевая эволюция композиторского творчества — появление новых и новейших его течений, связанных с коренными переменами музыкального языка (конкретная и электронная музыка, алеаторика, сонористика, не говоря уже о компьютерном музыкальном творчестве). Свидетельствами нотационного кризиса могут служить учащающиеся на протяжении почти всего истекающего столетия попытки заменить общепринятую нотную графику иными (чаще всего— также графическими) способами фиксации звука. К настоящему времени разработаны и с бόльшим или меньшим успехом применяются десятки, если не сотни таких способов. И тем не менее ни один из них не смог и, вероятно, не сможет заметно потеснить, а тем более — заменить пятилинейную нотацию, сохраняющую своё значение основы массового общения в рамках письменной музыкальной культуры.
Что же касается собственно фольклористических аспектов данной проблемы, то отношение к возможностям пятилинейного письма менялось в зависимости от исторических этапов становления фольклористической нотации. Если на первых порах приложимость европейской нотной системы к задачам фиксации народной музыкальной «мудрости» (вспомним этимологию слова «фольклор») в целом не вызывала сомнений, хотя сетования на некоторую ограниченность её возможностей раздавались уже достаточно давно, то второй этап нотировочной деятельности фольклористов сопровождался нарастающим скепсисом по поводу универсальности пятилинейной системы. Открывшееся же вскоре многообразие этномузыкальных культур, явно не схватываемое с позиций единого теоретико-аналитического метода, по существу привело и фольклористов к осознанию своего рода кризисной ситуации. С неменьшим, чем композиторы, упорством они обратились к поискам новых фиксирующих систем, к разработке дополняющих приёмов и уточняющих знаков, к попыткам унифицировать эти знаки.
Конечно, стремление к унификации фиксирующих знаков всегда было и должно оставаться фактором, сдерживающим произвол нотировщиков и предупреждающим недопустимые разночтения. Но теперь, как никогда раньше, становится очевидным, что унифицировать нотное письмо следует в разумных пределах, поскольку в противном случае оно неизбежно приходит в противоречие с несводимыми к единообразию народными музыкальными традициями. Живая, противоречиво многообразная звуковая ткань народного музицирования не позволяет и, вероятно, никогда не позволит до конца стандартизировать нотные обозначения. Всегда должно будет оставаться некое свободное «пространство» для отражения неповторимых черт конкретной народно-музыкальной культуры. И это «пространство» уточняющих допусков не только послужит согласованию (частичной «интерференции») конкретно ориентированных теорий, но и будет содействовать развитию интегративных возможностей нотной системы, способности её к условно-обобщённой фиксации выявляемых этими теориями смыслов.
Придание фольклористическому нотированию интегративных свойств, пожалуй, наиболее сложная и проблематичная, но одновременно и самая перспективная из вырисовывающихся задач музыкальной фольклористики. Она словно бы идёт вразрез не только с подчёркнуто дискретной природой самого нотного знака, но и с усиленно дифференцирующей, аналитически-расчленяющей тенденцией в совре-менной нотировочной практике фольклористов. Чрезмерная детализация музыкальной ткани, её последовательное расчленение на элементы, несущие смысл лишь в сложных и неоднозначно прочитываемых своих сочетаниях,— отнюдь не самый радикальный путь к содержательным пластам народной мелодики, даже если подобная детализация частично компенсируется аналитическим структурированием текста. Выявление глубинных принципов музыкальной организации, свойственных конкретной фольклорно-мелодической культуре, должно быть органи-чески связано с выведением и соответствующих этим принципам интегративных норм, в такой же, если не в большей, мере характеризующих своеобразие определённого типа устно-музыкального мышления.
То, что было простым и естественным в распространенной некогда практике невменного нотирования, выросло для нас — в итоге длительного культивирования пятилинейной нотации — в трудноразрешимую проблему, стало едва ли не главным камнем преткновения на пути к отнюдь не усложнившимся смыслам народного музицирования. Не случайно таких специфических усилий требует теперь прочтение условно-интегративных средневековых музыкальных помет (русских знамен или, скажем, армянских хазов), в свое время доступных каждому рядовому распевщику. И хотя главная причина «онемения» старинных музыкальных рукописей заключается в самом характере их невосстановимой связи с умолкшей певческой практикой, немалая доля расшифровочных трудностей при современном музыковедческом к ним подходе определяется заметным ослаблением интегрирующих моментов в нашем нотно-музыкальном сознании.
Можно, вероятно, спорить, в какой степени хотя бы частичное возвращение к «тайнозамкненности» обобщённых обозначений, «тайнозамкненности», которая предполагает «изображение относительно сложного и продолжительного напева условным простым и сокращенным способом» 3, поможет решить проблемы постаналитического нотирования, но трудно не почувствовать, что психологической доминантой грядущего этапа для большинства фольклористов скорее всего станет отчётливое стремление к «новой простоте», к простоте как синониму точности и соответствия каждой конкретной нотации внутренней, содержательной организации соответствующего музыкального языка.
Но достижение истинной простоты — задача поистине сверхсложная. В сегодняшней фольклорно-нотирующей практике, сформированной подчёркнуто аналитическими установками, для этого необходима принципиально новая и мощная интеграционная методика, по существу, новая ступень мышления, прорыв к которой вряд ли может быть скорым и одномоментным. Выдвигая интегративную нотацию в качестве труднодостижимого идеала, следует сосредоточиться на создании реальных предпосылок к её осуществлению.
Интегративная нотация, достаточно гипотетическая и пока лишь смутно рисующаяся воображению, не может возникнуть как простая реакция на чрезмерную аналитичность достигнутого этапа. В каком-то смысле её можно мыслить как возвращение к интуитивным прозрениям «композиторского» периода, но возращение, обогащённое достижениями «транскрипционного» и «аналитического» нотирования, опирающееся на опыт всей пройденной истории формирования музыкальной фольклористики как самостоятельной и зрелой отрасли общего музыкознания. Наступающий период развития фольклористического нотирования, призванный стать этапом окончательного его становления, должен быть не просто постаналитическим, но обобщающим, синтезирующим — в широком и прямом значении данного слова. (Поэтому, кстати, так важно сейчас подвести итоги пройденного пути и систематизировать теоретические и практические его достижения.)
Само выведение интегративных, нерасчленимо целостных смыслов устно-музыкального интонирования предполагает органический синтез всех, ныне по необходимости раздельно фиксируемых сторон звучания. Содержательно действенная интеграция нотного текста, по существу, и должна быть не чем иным, как корректно осуществленным синтезом разноаспектных представлений. По-настоящему плодотворный синтез должен быть всеохватывающим. И поэтому решающими предпосылками к интегративному нотированию выступают многосторонность и исчерпывающая полнота описания фиксируемого явления, непротиворечивость и комплексность этого описания.
Прежде чем превратиться в действительно интегративную, фольклористическая нотация должна стать комплексной. Движение к конечной цели постаналитического нотирования, таким образом, естественно разделяется на две фазы: предварительную, к которой мы имеем все основания приступить уже сейчас, и завершающую, к осуществлению которой мы тем самым создадим необходимые предпосылки. Реальную перспективу движения открывает лишь чёткое разграничение и согласование конечной (идеальной) и первоочередной целей, стратегической и тактической задач.
Сегодня путь к интегративной методике записи устного звучания пролегает через формирование и совершенствование комплекса разноаспектных представлений, отнюдь не только чисто музыковедческих. Истинное значение и жизненное предназначение народного искусства, его содержательная сторона раскрываются и в результате углублённого социологического анализа фольклорных явлений, и благодаря введению их в широкий культурологический контекст. Вне разностороннего и комплексного осмысления фольклора как целостного и своеобразного культурного феномена, по существу, нельзя адекватно решить ни одну, казалось бы даже частную, нотнофиксационную проблему. Все они в конечном счете оказываются внутренне связанными.
Таковы в общих чертах история фольклористического нотирования и ситуация, сложившаяся в этой сфере в настоящее время. Чтобы отчётливо представить себе пройденный путь и перспективу развития фольклорной нотации, попробуем отразить высказанные соображения в таблице.
Как видим, разграничение этапов формирования фольклористической нотации, в принципе отнюдь ещё не завершённого, достаточно условно и может быть проведено на разных основаниях. И всё же пять выделяемых здесь типов нотации, уже сложившихся или только намечающихся, представляются качественно определёнными и потому реальными. Разумеется, в действительности границы между ними не были и не могут быть непереходимо строгими. Такими они предстают лишь на условной схеме. Фактически развитие методов фольклорного нотирования протекало в постоянном столкновении противоборствующих взглядов, и появление новых ориентиров отнюдь не упраздняло прежних установок. Приверженцы «художественных» нотаций и сторонники сугубо научных подходов, к тому же совсем не одинаково понимаемых, активно конфронтировали во все времена. Смена главенствующей установки — на «красоту», «подробность» или «структурированность» нотировок — до сих пор проявляла себя лишь как результат взаимодействия противодействующих тенденций, как появление новых векторов в общем потоке противоречивых исканий.
Каждый из появляющихся типов нотации был обусловлен поисками своего идеала. Нотировщики «композиторской» эпохи стремились прежде всего выявить художественную ценность фольклорного материала, понимаемую ими в духе доминирующего канона современной им письменной музыки. Наиболее увлечённые представители «фонографической» эпохи искали приближения к объективной точности механически фиксируемого звучания, к максимальному использованию возможностей, открываемых в этом отношении звукофиксирующей техникой. Главной заботой многих сегодняшних фольклористов стало аналитическое расчленение и внутреннее структурирование нотного текста, поиски содержательных связей через упорядочение всех его компонентов. Эти последовательные переориентации были логически закономерными, каждый намечавшийся сдвиг был вызван стремлением преодолеть односторонность и недостатки предшествующего этапа. И, пожалуй, самый крутой и трудный поворот — в противовес крайностям аналитического нотирования — ждёт нас в будущем.
Не «обработка» или «переложение» устной музыкальной речи народа на язык одного из доминирующих композиторских стилей, не «расшифровка» или «транскрипция» устного звучания в «транслитерационном» ключе универсализирующейся нотации, и даже не аналитически препарированная «модель» фольклорного образца, «типологически идентифицированного» с позиций по существу одноосновной и частной теории, но вскрытие и отражение условным языком нотных знаков собственных способов и норм содержательной организации конкретных и многообразных устных музыкальных культур на многоосновной и согласованной общетеоретической базе — таково главное направление фольклорно-нотирующей деятельности на наступающем, постаналитическом этапе.
Думается, что общая логика поэтапного развития фольклористической нотации в целом именно такова: от интуитивного постижения — через проработку внешних деталей — к аналитическому структурированию, чтобы прийти затем к действительно адекватным нотным решениям — одновременно типовым и индивидуальным. Косвенно это подтверждается хотя бы тем, что сходные с упомянутыми этапы наблюдаются при формировании отдельных национальных фольклористических школ. По существу те же стадии проходит в своём индивидуальном профессиональном становлении каждый фольклорист-нотировщик. И даже работа над конкретной нотацией достаточно сложного фольклорного образца нередко повторяет те же логические этапы. Обычно сначала схватывается общий мелодический контур, затем последовательно прописываются детали, которые потом упорядочиваются в процессе выявления типовой структуры. И только в итоге — отнюдь не всегда достигаемом — являются неповторимая индивидуальность, содержательная глубина и... относительная простота нотировочного решения.
Теперь, когда очерчены контуры и намечены вехи исторического развития фольклорной нотации, можно перейти к существу основных её проблем. Как было сказано, главные из них — три. Во-первых, что должна фиксировать нотация, а это впрямую связано с проблемой содержания устно-фольклорных музыкальных высказываний. Во-вторых, как это содержание должно быть отражено в нотном тексте, что связано с вопросом о возможностях и специфике пятилинейного письма. И, в-третьих, ради чего это должно делаться, то есть каковы цели и конечный результат нотировочной деятельности фольклориста.
По каждой из проблем можно было бы говорить отдельно, посвятив им специальные главы или даже целые исследования. Однако для нас очевидна и важна их взаимосвязь, а, следовательно, и необходимость согласованного рассмотрения. Фактически все три проблемы можно трактовать как одну многосложную. И фокусируется она вокруг фундаментальной для понимания фольклора и концептуальной для рассмотрения всей современной музыкальной ситуации антиномии — антиномии устного и письменного.
Вряд ли теперь уже у кого-либо вызывает сомнение, что непосредственно сосуществующие и тесно взаимодействующие между собой культуры — письменная и устная — коренным образом друг от друга отличаются. Эти различия касаются не столько внешних признаков, сколько глубинных конституциональных свойств обеих культур. В осмыслении этих различий ключевым звеном становится процедура письменной фиксации устных высказываний, то есть процесс создания письменных текстов, связанный с целым рядом трудно разрешимых проблем.
Применительно к музыке, где, как известно, в качестве оппозиционных явлений противостоят фольклор (песенный и инструментальный) и композиторское творчество, проблема фиксации неизбежно выступает как проблема нотации. Будучи одним из видов графической записи звука, нотация, по определению, принадлежит сфере письменной культуры, создавая при этом одно из коренных противоречий между подчёркнуто устной природой фиксируемого объекта и письменной формой его отражения.
Противоречие это, хотя и не ускользало от внимания записывающих музыкальный фольклор, но, тем не менее, осознавалось скорее как досадное недоразумение, как своего рода помеха на пути увековечения фольклорных ценностей графическими средствами. Тем не менее, история фольклорных нотаций складывалась в постоянном стремлении к совершенствованию этих средств.
Путь этот представляется сегодня вполне понятным и абсолютно естественным, если отдать себе отчёт в том, отчего возникла сама потребность в письменной фиксации музыкального фольклора, у кого она первоначально возникла и чему эта фиксация призвана была служить.
Естественное саморазвитие фольклора, его нормальное, полноценное функционирование само по себе, как правило, ни в какой форме записи не нуждается. Будучи одним из наиболее ярких проявлений устной культуры человека, фольклор выработал на протяжении веков свои собственные средства сохранения, позволяющие ему беспрепятственно выполнять своё жизненное предназначение. Механизмы изустного научения, непосредственной устной передачи фольклорных ценностей оказались достаточно совершенными как с точки зрения необходимой их сохранности, так и для создания условий и предпосылок к естественному развитию музыкально-фольклорной деятельности. Вопрос о необходимости записей фольклора первоначально возник в связи с тем, что последний стал осознаваться представителями письменной культуры как безвозвратно уходящая художественная ценность, а проявления фольклорной деятельности стали восприниматься как объекты особого эстетического интереса, породившего желание сохранить и ввести эти объекты в общекультурный художественный оборот 4.
К этому времени письменная музыкальная культура уже располагала вполне развитым аппаратом сохранения, передачи и распространения своей продукции. Специально разработанный для выполнения определённых задач, не выходивших за пределы влияния культуры письменного типа, аппарат этот весьма полно удовлетворял её основные потребности, обслуживая соответствующий тип творчества и функционирование его результатов. Таким аппаратом явилась для европейской композиторской музыки пятилинейная система нотной записи, которая в двух координатах — высотной и временной — схватывала и запечатлевала основные закономерности фиксируемой ею музыкальной речи. Естественно, что именно эта пятилинейная система стала использоваться и в качестве фиксатора музыкально-фольклорных образцов.
Говорить о том, что пятилинейная нотация просто обслуживала потребности определённого типа музыки, которому она призвана была соответствовать, было бы не вполне точно. Дело в том, что сложившаяся система записи оказалась небезразличной к формированию и развитию обслуживаемого ею музыкального языка, а следовательно, и музыкального мышления. Форма фиксации накладывала свою печать на фиксируемые ею объекты уже на стадии их замысла, предопределяя до некоторой степени средства и приёмы формирования самих продуктов данного типа культуры. Подобное взаимодействие между способом и объектом фиксации следовало бы, очевидно, считать в определённом смысле идеальным.
Однако высокая степень взаимосвязи музыкального языка и средств его графического отображения обусловила известную ограниченность указанной системы в целом, придав ей чрезмерную завершённость, которая стала определённым препятствием даже в пределах самого европейского композиторского творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно предпринять краткий экскурс в историю европейской нотации.
Зарождение современного нотного письма тесно связано с музыкальной практикой средних веков и эпохи Возрождения. Выкристаллизовавшееся первоначально на основе григорианского пения, нотное письмо линейного склада совершенствовалось затем в процессе формирования европейской музыкальной классики, достигнув расцвета в творчестве выдающихся композиторов XVIII—XX веков — от Перголези до Стравинского включительно. И в наши дни пятилинейное письмо продолжает оставаться незаменимым средством массового музыкального общения, вполне удовлетворяя творческие потребности большинства композиторов, ориентирующихся на развитие традиций отечественной и зарубежной музыкальной классики. Вместе с тем формирование некоторых новых стилевых направлений современной музыки оказалось связанным с выходом за пределы, доступные традиционной нотации. Не случайно всё большее число радикально настроенных современных авторов принуждено существенно трансформировать сложившиеся приёмы записи, а порой и вовсе отказываться от всем привычной пятилинейной графики. Но ещё прежде композиторов-авангардистов об ограниченных возможностях нотного письма заговорили фольклористы, на практике столкнувшиеся с невозможностью нотной фиксации наиболее характерных свойств и сторон народного музицирования.
Сетования по поводу ограниченных возможностей нотного письма, обнаруживавшихся при попытках записи народных песен, раздавались с первых же шагов отечественной музыкальной фольклористики. «Склад и лад русской песни виден только в пении, а не в чтении», — писал в середине прошлого века этнограф и археолог А.И. Пискарёв 5. Трудности этого рода естественным образом связывались с невозможностью уловить самобытность национально характерной мелодики с позиций общеевропейской музыкальной теории, с которой нотное письмо оставалось неразрывно связанным. Оценивая почти все существовавшие к тому времени публикации русских песен с нотами, один из наиболее вдумчивых и серьёзных собирателей музыкального фольклора, Н.М. Лопатин, вынужден был конста-тировать, что составители первых русских музыкальных сборников «явно старались приноравливать наши народные мелодии к западной форме, кто к итальянской, кто к немецкой, для сего вводили симметричный ритм, которому отнюдь не подчиняется раздолье нашего народного пения; подводили нашу мелодию под какой-нибудь определённый тон или лад, и когда наша мелодия не гнулась, то наказывали её, подправляли, урезывали, приставляя к ней небывалые диезы и бемоли и таким путем, уничтожая самобытность наших песен, придавали ей искусственную пошлость» 6.
Но даже и тогда, когда первоначальные теоретические несообразности были в какой-то мере преодолены, коренное, принципиальное противоречие нотного текста реально звучащей песне по-прежнему продолжало оставаться камнем преткновения для наиболее мыслящих музыкантов. Логический итог осмыслению данного противоречия выразительно подвела в начале нашего века Надежда Яковлевна Брюсова, известный музыковед-фольклорист и деятель музыкального образования. В статье «О народных хорах», опубликованной в журнале «Музыка», она писала:
«Народная песня "в точной записи" — разве это народная песня? Запись её — это запись только одного исполнения, и если только оно будет всегда повторяться, то это будет чем-то иным, чем исполнение народной песни. Мы, живущие в городах, не можем иначе знать народную песню, как только по книгам и по таким записям. Но ведь те, кто пел её, могут знать её ближе и лучше, знать настолько, чтобы никогда не повторять её одинаково, из какого-то совершеннейшего, им одним ведомого прообраза извлекать каждый раз новый, только для этого часа подходящий и нужный образ. А в записи этот прообраз принизится, сравняется с этой одиночной записью, умрёт. И уже возможность дальнейшего творчества, конечно, исчезнет, путь его оборвётся» 7.
Быть может, это крайняя точка зрения. Но, тем не менее, она отчасти находит новые подтверждения в наши дни.
Небезынтересно в этой связи проследить развитие взглядов на соотношение устного и письменного музыкальных начал по намеченным выше этапам исторического становления фольклористической нотации. На «композиторском» этапе нотировочной деятельности фольклористов противоположность устного музыкального общения общению письменно-опосредованному по существу не осознавалась. Язык музыкального общения воспринимался как в принципе единый, независимо от того, запечатлевался ли он на нотной бумаге или оставался незаписанным. Ощущение принципиальной затруднённости при переводе устного звучания в нотный текст явилось, собственно говоря, побочным следствием сверхдетальных нотаций второго, «транскрипционного» периода, когда повышенная вариативность и неустранимая множественность проявлений предстали как неотъемлемые, конституциональные свойства устного музыкального выражения. Решающий же сдвиг в понимании всего комплекса связанных с этим вопросов намечается лишь сейчас, когда с утверждением аналитических нотаций начинает осознаваться не просто отличие фиксируемого и нефиксируемого в музыкальном языке, а более сложное и фундаментальное противостояние внешнефиксированного и внутреннефиксированного звучания. Именно в этом начинает опознаваться коренное расхождение письменного и устного музыкального искусства. Фольклорная и композиторская музыка не просто по-разному функционируют в обществе, не просто предполагают различную коммуникативную механику своей реализации, но, в связи с этим, оказываются по-разному внутренне устроенными 8.
Как и профессиональное композиторское искусство, народная музыка не может существовать, не закрепляя в традиции свой продукт — художественные артефакты, «произведения». Последние же сохраняются и передаются из поколения в поколение не столько благодаря закреплению в памяти внешних параметров формы, сколько путём передачи внутренних механизмов её порождения. В любом случае дело не обходится без того или иного способа фиксации. Только в одном случае — в композиторском искусстве письменной традиции — эта фиксация более определённа, жёстка, предметна, внешне проявлена, в другом же — в устной фольклорной практике — она гибка, пластична, внутренне скрыта. При таком понимании истинно фольклористическая нотация может рассматриваться как своего рода способ проявления, материализации внутренних фиксационных механизмов, действующих в музыке устной традиции. Отсюда вытекает целый ряд особенностей фольклорной нотации и современных требований к её оформлению, которым будет уделено внимание в последующих разделах работы. Сейчас же продолжим общее соотнесение музыки устной и письменной традиции с точки зрения её внутренней и внешней организации.
Существенно расходящиеся способы фиксации не могут не иметь далеко идущих последствий в плане глубинной структуры устной и письменной музыки. Единые в своих исторических истоках, эти виды музыкального искусства начинают постепенно обнаруживать различные тенденции развития, приводящие к заметной их поляризации как в отношении содержания, так и с точки зрения конструктивных особенностей формы. Будучи каждый раз фиксируемой в более или менее устойчивом и однозначно читаемом нотном тексте, форма в композиторской музыке получает и широко реализует возможность, а в отдельных жанрово-стилевых направлениях даже и необходимость быть неповторимо индивидуальной. Неповторимость, соответствие сугубо индивидуальному замыслу становится (при всех чертах внутренней типологичности) нередко едва ли не основным требованием «высокого» композиторского искусства. Устная же народная музыка по-прежнему может осуществляться лишь по «типовому проекту». Иначе она попросту не имеет шансов закрепиться в традиции, то есть сохранить себя как жизнеспособный организм.
Разумеется, обладая гибким внутренним стержнем, но не жёстко фиксированным алгоритмом воспроизведения, свободно-инвариантная по самой своей природе народная песня никогда не реализуется в точных повторах. Однако её под-чёркнутая вариантность и заведомо индивидуальный облик композиторского опуса, при некотором внешнем сходстве, представляются явлениями принципиально разного порядка. И одна из наиболее сложных, но неотъемлемых задач фольклористической нотации заключается в том, чтобы запечатлеть это различие.
Единство корней (вся музыка некогда была подчёркнуто безписьменным искусством) и постоянное взаимодействие устного и письменного музыкальных потоков не позволяют провести между ними непроходимую грань. Точнее было бы говорить об устном и письменном как о двух полюсах, к которым тяготеет конкретная музыкальная практика и между которыми существует обширная переходная область. Для наших дней активное взаимное влияние двух творческих парадигм особенно характерно, поскольку воздействие композиторской продукции на носителей фольклорной культуры заметно возрастает (благодаря размыканию фольклорной среды и активному вторжению средств массовой коммуникации), а, с другой стороны, типовые модели устного музыкального общения по-прежнему заносятся в сферу композиторского творчества и усиленно разрабатываются в нём. И тем не менее, противоположность двух принципов музыкальной организации отнюдь не снимается, но, напротив, чётче осознаётся в ходе их осмысленного и целенаправленного сопоставления.
Здесь можно было бы провести ещё одно, достаточно условное, сравнение — с взаимодействием поэзии и прозы в современном литературном процессе. Стилевые грани между этими двумя видами художественной речи сегодня нередко намеренно стираются, хотя это и не снимает их исходного противостояния. Оттого что отдельные поэтические произведения, даже по своему внешнему оформлению, становятся похожи на прозу, а проза зачастую до предела насыщается приёмами поэтической выразительности, в целом два вида организации словесного искусства не перестают быть диаметрально несхожими на своих полюсах.
Как будто бы несколько неожиданная и произвольная, приведенная аналогия может быть расширена и углублена не без пользы для интересующей нас темы.
Помимо того, что фольклор тесно связан с поэтическим словом, а народная песня в большинстве случаев попросту является поющейся поэзией, сближение композиторской музыки (прежде всего — бестекстовой, инструментальной) с прозаическими литературными жанрами имеет весьма веские основания, и прежде всего — в принципах их структурной организации, небезразличной для способов записи соответствующих текстов. Определённая звукоритмическая упорядоченность поэтических текстов непроизвольно способствует их запоминанию, иными словами — их внутренней самофиксации. Свободно же организованная прозаическая речь представляет значительно большие трудности для запоминания и точного воспроизведения по памяти. Не случайно стихи значительно чаще, чем проза, располагают к чтению вслух и наизусть. В силу самих своих конструктивных особен-ностей проза значительно крепче привязана к письменной форме фиксации, без которой многие её современные виды и жанры попросту не могли бы осуществиться. (Вспомним, что в дописьменную эпоху многие наиболее развёрнутые формы художественного повествования были, как правило, стихотворными и нередко поющимися, например героический эпос.)
Намеченная аналогия может быть развита и далее, но мы ограничимся сказанным, чтобы сделать один из предварительных выводов, касающийся основного характера и соответствующего ему внешнего оформления фольклористических нотаций. Подобно общепринятому в последние века способу записи стихов, нотные записи народной музыки могут и должны быть графически упорядочены в соответствии с внутренней смыслообразующей их структурой. Собственно говоря, это и соответствует высказанному ранее соображению о переводе во внешний план внутренних принципов фиксации народных мелодий. Их нотные записи становятся, таким образом, двухплановыми, то есть сочетающими чисто внешнюю фиксацию общего звучания с отражением в ней (с помощью специальной техники аналитического препарирования) внутренних, содержательных моментов звучащей формы.
Возвращаясь к антиномии «устное — письменное» — к одной из кардинальных языковых антиномий, в свете которой проблемы фольклористической нотации предстают особенно выпукло,— следует подчеркнуть, что осознание принципиального расхождения устных и письменных языков становится сегодня всё более отчётливым не только и не столько в музыке, сколько вообще в гуманитарной сфере в целом. Противостояние непосредственного, прямого высказывания и высказывания кодифицированного, опосредованного письменным текстом, уже основательно проработано общей лингвистикой. Учёными доказательно раскрыто коренное отличие разговорной речи от кодифицированного литературного языка, отличие, обнаруживающее себя на различных уровнях её организации: лексическом, морфологическом, синтаксическом. Фактически разговорная речь оказывается — в рамках единого национального языка — существенно по-иному функционирующей языковой системой, требующей особой техники её письменной фиксации 9. И музыковеду-фольклористу имеет смысл опереться на эти представления, поскольку принципиально устный характер является неотъемлемым свойством музыкального фольклора, противополагающим его письменной культуре профессиональных композиторов.
Конечно, сближение устно бытующей народной мелодии с разговорной речью и, соответственно, сопоставление композиторской музыки с кодифицированным литературным языком могут оказаться плодотворными лишь в сугубо теоретическом плане. Практически ценных выходов в смысле совершенствования приёмов фольклористического нотирования они, скорее всего, не дадут. И это понятно. Разговорная речь, в отличие от народной музыки, не принадлежит сфере искусства, обладающего неповторимой спецификой и не допускающего прямого переноса вне него обнаруженных закономерностей. И, тем не менее, самое общее сопоставление устного и письменного языковых начал безусловно поможет многое прояснить в занимающей нас проблематике 10.
В основе двух музыкальных субъязыков — устного и нотно-письменного — лежит глубинное, хотя всё ещё не до конца выявленное различие, позволяющее говорить о двух существенно не совпадающих типах музыкального мышления. Если изначально устный по своей природе язык народной песни тяготеет к континуальному полюсу сознания, к свободно-контекстной изменчивости смыслов и нелинейной организации своих звучащих «текстов», то язык композиторского творчества, непроизвольно бравшийся фольклористами-нотировщиками за эталон, в значительной мере сформирован с участием механизмов письменности и потому тяготеет к устойчивым по своему значению дискретным знакам. Нотная запись фольклорного пения, если она, вслед за композиторскими текстами, представляет собой одномерно организованный, линейный, in continuo оформленный текст, в чём-то существенном противоречит логике и механизмам функционирования народной песни, догадываться о которых мы можем только в результате углублённого и целенаправленного анализа этих последовательно одномерных текстов.
Существование в рамках одной культуры двух далеко разошедшихся в своих внутренних логических структурах музыкальных субъязыков остро выдвигает проблему взаимопонимания их носителей, или иными словами — проблему адекватного перевода устного пения в письменный текст и, напротив, «декодировки» фольклорных нотаций музыкантами-исполнителями.
Строго говоря, однозначный перевод с континуально-циклического языка устной традиции на дискретно-линейный язык письменных знаков в принципе нереален, особенно если учесть сложную образно-поэтическую природу языка искусства. В этом случае ситуация адекватного перевода, по существу, заменяется ситуацией нахождения приемлемых эквивалентов в контексте иного языка. Это обстоятельство достаточно чётко осознавалось выдающимися представителями русской фольклористической мысли ещё тогда, когда вопрос о противостоянии устного и письменного музыкальных языков отчётливо не формулировался. Не случайно уже П.П. Сокальский утверждал, что «всякая укладка народной песни в наши ноты есть начало изменения её, начало процесса переработки её или, если можно так выразиться, есть перевод её из старинного языка на наш современный общий музыкальный язык, причём перевод, — добавлял он, — может быть более или менее удачным, по таланту переводчика» 11. Вот, вероятно, почему, несмотря на все современные усилия унифицировать технику фольклорных нотаций, все-таки никогда не удаётся добиться того, чтобы записи одного и того же народного напева полностью совпадали у двух разных нотировщиков, если даже последние принадлежат одной и той же фольклористической школе 12.
При сопоставлении искусства нотировщика с художественным переводом возникает потребность в новом понятии — базисный язык, или язык переводчика. В роли «переводчика» в данном случае выступает фольклорист, музыкально-теоретические представления которого становятся решающим звеном музыкальной коммуникации в качестве своего рода «кода», определяющего как достоинства, так и недостатки той или иной конкретной нотировки. Теоретические представления нотировщика, сознательно или неосознанно кладущиеся в основу нотного текста, образуют фундамент (базис), определяющий характер и практическую ценность конечного продукта — конкретной нотной записи фольклорного оригинала.
Вообще говоря, в качестве «базисного языка» нотировщика могут выступать либо музыкальный стиль определённого композиторского направления, на которое он вольно или невольно ориентируется, либо внутренние закономерности той или иной фольклорно-музыкальной культуры, определяющие способ и особенности её функционирования. Однако, как показывает практика, чаще всего «базисным языком» фольклористов была и остаётся европейски-академическая теория музыки, на словах нередко отвергаемая, но на деле всё ещё претендующая на своего рода универсальность. Сквозь эту школьно-теоретическую базисную систему прочитываются не только подавляющее большинство нотаций композиторского этапа, но и многие современные нотировки. Иные базисные языки лишь начинают складываться, и, собственно говоря, их поиск и формирование становятся по-настоящему актуальными только в самое последнее время.
Возникает вопрос: что лучше, когда базисный язык нотировщика достаточно универсален и потому весьма далек от многих фиксируемых музыкально-фольклорных явлений, или когда этот язык весьма специфичен, поскольку ориентирован на глубинные закономерности конкретной и нередко неповторимой музыкальной культуры? И то, и другое имеет свои преимущества и изъяны. Сегодня мы как будто начинаем склоняться к тому, чтобы признать предпочтительную ценность специализированного базисного языка, отражающего особенности вполне конкретной культуры. Но как бы то ни было, лучше, если «расстояние» между реальным, запечатляемым в нотации языком и базисными ориентациями нотировщика очевидно не только для самого нотировщика, но и для большинства читающих данную нотацию. И, наверное, было бы ещё лучше, если бы мы располагали не одной письменной версией далекого от нас фольклорного оригинала, а, по меньшей мере, двумя или тремя вариантами нотировки, сделанными в различных теоретических «ключах».
Конечно, степень различия в нотациях одного и того же образца не всегда настолько велика, чтобы ею нельзя было бы пренебречь. Иначе пришлось бы вообще поставить под сомнение всю деятельность фольклористов-нотировщиков. В каждом из обособившихся музыкальных субъязыков всегда есть пласты, интенсивно тяготеющие друг к другу. Такие близко сходящиеся ветви культуры обычно активно взаимодействуют между собой, и в этом случае их взаимный «перевод» связан со значительно меньшими трудностями. Однако это не снимает проблему в целом: наиболее специфические проявления каждого из противостоящих типов музыкального мышления — устного и письменного — требуют незаурядного и специализированного «переводческого» мастерства.
Если фольклорные нотации рассматривать как переводы с устного музыкального языка на письменный, то исполнители нотированных народных песен — это, как было замечено, своего рода «декодировщики», осуществляющие весьма проблематичный обратный перевод 13. Прочтение нотного текста, то есть его возвращение в тот или иной вид звучания, в лучшем случае способно дать лишь частичное совпадение с первоисточником. Каждый собиратель народных песен, наверное, не раз с удивлением замечал, что записанная им от народного певца мелодия, исполненная затем на инструменте или спетая по нотам, отнюдь не всегда опознается певцом как та же самая песня 14. Тем более, если фольклорная культура оказывается далекой от европейской традиции и если интерпретация нотного текста проходит несколько стадий опосредованного воспроизведения, например, в результате хотя бы незначительного композиторского вмешательства или при исполнении напева третьим лицом.
В связи со всем сказанным здесь невольно напрашивается вопрос о содержательной стороне народной музыки и о тех возможностях, которыми располагает нотная система записи для отражения этого содержания.
Вслед за уже утвердившейся в отечественном музыкознании традицией представляется целесообразным чётко различать два плана содержания, так или иначе взаимодействующие в музыке любого склада. Первый план — автономное, собственно музыкальное содержание, непереводимое на языки иных понятий. Это то, что другими словами можно охарактеризовать как содержательные моменты музыкальной формы, имманентная логика музыкального процесса и т. п. Отражение этого плана содержания является главной, если не единственной целью нотной записи, рассматриваемой как исторически сложившаяся совокупность общепринятых нотных знаков. Однако не это содержание чаще всего представляет доминирующую ценность музыкального искусства в глазах общества. Скорее оно выступает в роли своего рода «контейнера» для содержания более широкого и общего плана, содержания, которое следовало бы назвать образно-ассоциативным, наполняющим музыкальную ткань в зависимости от конкретного исторического, социального и культурного контекста.
Два плана содержания тесно сплетаются между собой и оказываются сложно взаимодействующими. Их связь улавливается с помощью таких сложных категорий, как жанр и интонация, однако для этого требуется развитая и достаточно изощрённая аналитическая техника, далеко выходящая за пределы одного только нотного текста. Отдельно и внеконтекстно взятая нотная запись, не поставленная в связь с определённой стилевой традицией и жизненной ситуацией, породившей данную музыку, не способна дать нам сколь-либо внятное представление об истинном её содержании.
В том случае, когда обстоятельства появления конкретной нотной записи и стиль запечатленной в ней музыки нам не известны, мы начинаем судить о них на основании какого-либо иного, по каким-то причинам лучше нам известного стиля, а это может увести достаточно далеко от реальности. Чтобы этого не случилось, обычно прибегают к тому, что, условно говоря, можно назвать «легендой», то есть предваряющим или сопровождающим нотную запись словесным описанием обстоятельств и условий ее появления. Это относится к любой музыке, в том числе и к композиторской классике, только в последнем случае «легенда» может быть предельно краткой, поскольку многие контекстные сведения могут быть сравнительно легко извлечены из популярной музыковедческой литературы. Иной раз нам вполне достаточно фамилии композитора и года сочинения данного произведения (или номера опуса), чтобы заранее избрать верную стилевую ориентацию для восприятия. Причем это касается обоих пластов содержания: и собственно музыкального (стилевого), и общего, образно-ассоциативного, поскольку социокуль-турный контекст сочинения нам также более или менее известен по приобретённому слуховому опыту и доступен благодаря справочно-биографическим описаниям, создающим культурную «ауру» вокруг классического искусства.
Совсем другое дело — обстоятельства, породившие то или иное фольклорное явление. Они, как правило, неизвестны не только широкой аудитории, но и достаточно тесному кругу специалистов. И поэтому, по уже утвердившейся традиции, «легенда», сопровождающая фольклорную нотировку, включает довольно широкий спектр так называемых «паспортных» данных. Эта «легенда» обычно включает целый ряд необходимых сведений, составляющих типовое примечание к нотной расшифровке. Сюда входят обычно такие социокультурные данные, как имя, год рождения (возраст) и социальная характеристика исполнителя (его профессия, принадлежность к определённой социальной и этнической среде). Нередко указывается место рождения народного музыканта, помогающее определить его принадлежность к определённой локальной традиции. Существенными оказываются место и время, а также контекстные обстоятельства, в которых производилась запись, теперь, как правило, магнитофонная. Это тоже позволяет судить о близости обстоятельств исполнения к традиционным условиям, и тем самым, об этнографической достоверности звучания (одно дело, когда запись производилась, скажем, непо-средственно в момент отправления обряда, и совсем другое, когда обстановка записи была приближена к студийной). Немаловажно также и то, кем именно и с какими предустановками производилась эта запись, и потому обязательно должно указываться имя собирателя. То же самое относится к сведениям о нотировщике и о времени и обстоятельствах нотирования, что позволяет косвенно судить о теоретических позициях, с которых эта нотация осуществлялась, а следовательно, и должна прочитываться. Желательно, кроме всего прочего, указать также место хранения магнитофонной записи и оригинала нотной расшифровки, что позволит, при необходимости, перепроверить нотацию и разрешить возникающие сомнения и спорные моменты.
Как видим, паспортная аннотация фольклорной записи включает довольно широкий круг сведений, позволяющих судить о социокультурной ситуации, в которой осуществлялась эта запись. И это чрезвычайно важно, ибо народное музыкальное искусство, в отличие от композиторской музыки, в очень высокой степени конситуативно, его внешний звуковой план, а также в немалой мере и внутреннее содержание зависят от конкретных обстоятельств музицирования 15.
Однако одних только социально-ситуативных моментов в «легенде» к фольклорной нотации оказывается во многих случаях недостаточно. Выше говорилось о фактическом многоязычии народного музыкального мышления. И когда языково-стилевые показатели конкретной локальной культуры существенно отклоняются от общетеоретических представлений большинства нотировщиков, оказывается необходимым введение дополнительных условных знаков, корректирующих обычные приёмы нотного письма. В этих случаях нотная расшифровка, помимо социально-ситуативного «паспорта», нуждается в своего рода «технологической легенде» — в словаре нестандартных обозначений. По существу это то, что уже стало привычным в предисловиях ко многим фольклорным сборникам, открывающимся списком особых знаков уточнения нотации (микроальтерационные знаки, фиксирующие отклонения от полутоновой темперации, обозначения метроритмических неравномерностей и композиционно-структурных особенностей текста). За этими весьма разнохарактерными знаками порой угадываются особенности нестандарт-ной, сугубо локальной системы выразительности, составляющей основу конкретного музыкально-языкового диалекта и не укладывающейся полностью в общепринятую систему нотной фиксации.
Нелишне заметить, что здесь возникает закономерная параллель с некоторыми современными композиторскими новшествами, также затрагивающими установившуюся технику нотного письма. Показательно, что ряд новейших авторских партитур открываются транскрипционно-технологическими «легендами», порой намного превосходящими списки условных обозначений в фольклорных сборниках. Очевидно, что за этим стоит существенная стилевая трансформация музыкального мышления, выводящая за привычный круг приёмов нотной записи. И следует отметить, что многие из этих вновь вводимых обозначений оказываются вполне приемлемыми как в транскрипционной деятельности современных композиторов, так и в нотировочной практике фольклористов. И это отнюдь не случайно, поскольку одним из направлений современных композиторских поисков является намеренное или непроизвольное возвращение к интонационному опыту устных музыкальных культур.
Собственно говоря, в постоянной ревизии и корректировке приёмов нотного письма со стороны фольклористов и радикально настроенных композиторов нет ничего из ряда вон выходящего. В этом следует видеть естественное развитие нотно-письменной системы, осуществляющееся по мере поступательного развития самой музыкальной практики, преобразуемой не только активно действующими музыкальными писателями-новаторами, но и постоянно раздвигающими поле музыкально-стилевых реальностей фольклористами.
Итак, нотная запись народных песен изначально связана с определёнными трудностями. По самой своей природе музыка устной традиции, обладая целым комплексом специфических свойств, с большим трудом и значительной мерой условности поддаётся фиксации на нотной бумаге. И дело отнюдь не только в большой вариантной свободе фольклорных напевов и их постоянной изменчивости, особенно в культурах импровизационного склада. Сама внутренняя логика народного мелоса, сами принципы его развития не совпадают с логикой и смыслообразующей системой музыки письменной традиции. Европейское нотное письмо, во многом породившее эту традицию и связанное своим происхождением с мышлением вполне определённой стилевой эпохи, оказалось плохо приспособленным для записи устной народной музыкальной речи, тем более, когда это касается культур, заведомо далеких от европейской.
Существует, как мы убедились, и ещё одно, принципиально важное обстоятельство, осложняющее проблему записи народной музыки. Обстоятельство это — теснейшая связь, существующая между котировочной деятельностью и теоретическими представлениями нотировщика. Дело в том, что мы умеем анализировать и осмысливать лишь то, что научились более или менее точно фиксировать на бумаге. С другой стороны, мы можем достоверно и без существенного риска исказить смысл фиксировать в нотах только то, что хоть в какой-то степени предварительно осмыслили теоретически. Закономерные связи этого рода уже давно были замечены в отечественной музыкальной практике. Со свойственной ему резкостью об этом писал А.Н. Серов: «Есть... целые легионы музыкантов-техников, музыкальных мастеровых, воспитанных на западноевропейский лад и смотрящих на всю на свете музыку сквозь призму немецко-итальянских понятий, возведённых в закон с конца XVII века и вкоренившихся в продолжение всего следующего времени. Такого рода музыкальные "делатели" не настолько были лишены вкуса, чтобы не плениться, хотя бы до некоторой степени, свежестью народно-русских мелодий... Но не могли также и не взирать на эту простонародную "неучёную" музыку немножко через плечо. Вследствие чего возымели богатую мысль: приблизить эту простонародную русскую музыку к "музыке всеобщей", к музыке "образованной", истинной... На практике... музыкальные мастеровые натолкнулись в русской песне на материал весьма непокорный, неподатливый, но этого, разумеется, не заметили и, руководствуясь своими тупейшими и ограниченными идеалами, гордясь своей "образованностью", подошли к русским народным напевам с совершенно ложной стороны, прикоснулись к ним грубою ремесленною лапою и — стерли радужную пыль с крыльев музыкального мотылька, то есть исказили, обезобразили русско-народные мелодии иногда до неузнаваемости» 16.
Как видим, народная музыка уже тогда представлялась достаточно сложным объектом для понимания с позиций чуждой ей «школьной», академической теории музыки, и до сих пор ещё нередко опирающейся в основном на европейскую традицию композиторского мышления. Для основательного и верного её понимания, а следовательно, и записи, необходима была самостоятельная, вполне соответствующая ей теория, разработка которой, говоря словами того же Серова, «шла изнутри, из внутренней органической потребности в каждом конкретном случае, а никак не извне, как нечто чуждое, постороннее, как навязанный русскому простолюдину немецкий или полунемецкий костюм» 17.
Собственную теорию народного музыкального мышления, вытекающую из его внутренних, автохтонных свойств и закономерностей, строго говоря, и невозможно построить, опираясь на нотации, сделанные по нормам композиторской музыки. Такие нотации фольклорных мелодических образцов — по существу всего лишь их более или менее удачные «переводы» на принципиально иной, европейский письменный музыкальный язык. Адекватность при таком переводе заведомо недостижима, а относительная достоверность фиксации тесно связана с достоверным теоретическим осмыслением глубинных закономерностей народно-национального мелодического мышления.
Образуется своего рода замкнутый круг, и каждая нотация более или менее сложного фольклорного образца представляет собой попытку вырваться из этого круга. В поисках же выхода мы снова и снова задаёмся всё тем же изначальным вопросом: помогает или мешает нам в этом, сковывает или освобождает сама существующая система нотной письменности в том виде, в котором она сложилась и функционирует к настоящему времени.
До сих пор на протяжении долгих веков своего существования линейное нотное письмо было преимущественно связано с теоретическими основами тональной музыки европейского склада. Так или иначе все способы его уточняющего совершенствования были направлены на повышение «разрешающей» способности этой нотной системы без смены основного её теоретического «ключа», рассчитанного в основном на полутоновую высотную шкалу и мензуральную ритмику. Теперь же вопрос ставится по-иному. Речь должна идти о возможностях «переналадки» устоявшейся пятилинейной системы нотации в иных теоретических «ключах», о принципиальном расширении её теоретической базы и способности работать на иных, существенно расширенных основаниях.
Сегодня мы вступаем в эпоху, когда различные теоретические взгляды, проецируемые на весьма многообразную фольклорно-интонационную практику, получают право на параллельное существование и на реальное взаимодействие на общей базе усовершенствующейся и действительно универсализирующейся пятилинейной нотной системы. Остаётся только выработать принципы сосуществования различных теоретических представлений на этой общей нотационной основе. Но это-то и оказывается, пожалуй, наиболее сложной общеметодологической проблемой.
Реальное основание для решения этой фундаментальной проблемы может быть усмотрено в глубинных свойствах самой пятилинейной письменности. Её можно сравнить со своего рода теоретическим «метаязыком», допускающим прочтение на нём и благодаря ему интонационно-языковых явлений самого разного склада. Существенно отличаясь от фонематических и иероглифических систем письменности, пятилинейная нотация несёт в себе огромный исторический опыт, а главное, соединяет в себе сильные стороны обоих этих типов фиксирующих систем. Точнее же всего она может быть уподоблена (на современном этапе своего развития) международной транслитерационной системе, позволяющей прочитывать языковые реалии самого широкого спектра. Задача заключается в том, чтобы практически освоить эти её возможности и научиться писать и читать в этой системе, не смешивая различные теоретические представления и базисные языки. Сама повышенная условность пятилинейного нотного письма в принципе это допускает.
Существует два сравнительно простых способа доказать принципиальную условность общепринятой пятилинейной нотации. Для этого достаточно сравнить две расшифровки одного и того же, желательно магнитофонного, звучания (чтобы снять все привходящие ситуативные моменты). Даже если нотировщики принадлежат одной фольклористической школе, их версии нотного текста будут заметно различаться. Об этом красноречиво свидетельствует не только многолетняя практика учебных расшифровок в фольклорных кабинетах музыкальных учебных заведений (что может показаться не слишком убедительным ввиду недостаточной квалификации нотаторов-студентов), но опубликованные материалы специально проведенного международного эксперимента (см. его описание в конце данной работы и нотный пример 97).
Другой, не менее эффективный способ усомниться в достоинствах или, с других позиций, уверовать в действительную «универсальность» традиционной нотационной системы — сопоставить музыковедческие интерпретации одних и тех же фольклорных записей. Мало того, что один и тот же, достаточно простой и малообъёмный по звукоряду напев может быть и будет истолкован десятками разных способов, — целый комплекс стилистически связанных нотных расшифровок одной песенной традиции оказывается совершенно по-разному прочитан с позиций расхо-дящихся теоретических концепций 18.
И в том, и другом случае повинна, как справедливо утверждают психологи, существенно не совпадающая перцептивная база восприятия, предопределяющая очевидное расхождение фиксирующих и прочитывающих версий. Накопленный каждым музыкантом личный слуховой опыт, как правило, так или иначе сведённый им в единую систему теоретических представлений (в противном случае музыкант этот ощущает определённый психологический дискомфорт), формирует подчёркнуто индивидуальное слышание им вновь встречаемых музыкальных явлений. И поскольку системообразующие принципы устной музыки, заведомо далекие от доминирующих во всеобщем музыкальном сознании конструктивных норм композиторского искусства и отнюдь не лежащие на поверхности, требуют построения специализированных интонационных теорий, вовсе не сразу становящихся всеобщим достоянием, в смыслоразличающей и смыслоформирующей деятельности нотировщиков и слушателей мы и наблюдаем столь обескураживающий нас разброс вариантов восприятия, эмоциональных реакций и эстетических оценок, а главное — конкретных нотировочных решений. Диапазон разночтений нередко таков, что впору вообще поставить под сомнение целесообразность их дальнейшего накопления и публикации.
И всё же иного пути, чем путь реального совершенствования фольклористических нотаций, у нас нет. И именно пятилинейное нотное письмо при всех обстоятельствах остаётся одним из наиболее эффективных инструментов постижения устных музыкальных смыслов.
Сказанного отнюдь недостаточно для того, чтобы во всех деталях охарактеризовать противостояние письменного и устного начал в музыкально-языковой деятельности. Тем не менее это подводит нас к необходимости чётче осознать раз-личия в функциях нотирования применительно к устной и письменной музыке, с тем чтобы сформулировать задачи, стоящие перед фольклористической нотацией в соответствии с сегодняшним пониманием специфики музыкального фольклора. Только описав достаточно подробно основные функции нотирования в его приложении к композиторской музыке и фольклору, мы сможем основательнее судить как о достоинствах, так и недостатках пятилинейной системы нотации и о её приемлемости для целей фиксации образцов музыкально-фольклорной культуры, выявив при этом те ресурсы, которые, возможно, пока ещё не используются в фольклористике или используются недостаточно.
Одним из характернейших и основополагающих свойств нотации как в письменной культуре, так и при записи фольклорного музицирования является фиксация всегда лишь отдельного, единичного творческого акта. Независимо от дальнейшей судьбы нотного текста в нём запечатлевается либо вполне реализованное намерение, конкретный, осуществлённый замысел композиторского сочинения, либо уже состоявшийся единичный факт фольклорной реальности. Это свойство нотации абсолютно от неё неотъемлемо, и с ним приходится считаться при анализе любого нотного текста.
Данное свойство нотирования преодолевается в композиторской музыке проективной функцией нотации, то есть её предназначенностью для возможно более точного и многократного воспроизведения в исполнительской практике. Композиторская партитура представляется прежде всего материалом для последующего озвучивания. И, несмотря на то, что все исполнения, в силу конкретных и постоянно меняющихся обстоятельств, неизбежно становятся вариантными по отношению друг к другу, поле исполнительского варьирования достаточно жёстко ограничивается однажды оформленным композитором нотным текстом. Одно из важных следствий этого — возможность безошибочной идентификации композиторского сочинения «опусного» типа. За всеми, порою достаточно вольными, исполнительскими его интерпретациями всегда так или иначе ощущается присутствие однозначно зафиксированного в нотах письменного оригинала — уртекста. Очевидно, что в пределах той эпохи, которая пользуется уже сложившейся и ещё не начавшей разрушаться системой пятилинейной нотации, авторский текст создаётся композитором с естественной установкой на проективную его функцию и, чем больше заинтересован композитор в точности воспроизведения своего замысла, тем полнее этот замысел должен быть зафиксирован в нотном тексте, тем большим количеством уточняющих деталей — различного рода диакритических пометок, штрихов, словесных ремарок, динамических, темповых обозначений и т. д. — этот текст должен сопровождаться.
Нотирование фольклорного образца, при всем внешнем сходстве, определяется принципиально иной установкой. Главной заботой нотировщика-фольклориста обычно становится максимально точная и подробная фиксация однажды совер-шившегося исполнения. Казалось бы, именно это исполнение, будучи зафиксировано в нотах, также превращается в своего рода эталон для последующих интерпретаторов, в главное руководство к их действиям. То есть с момента перевода в письменный вид данный фольклорный образец начинает уже в новом — нотно-письменном — облике выполнять как будто бы ту же самую роль, что и нотный текст композиторского опуса. Однако здесь-то и возникает одно из главных расхождений в самих смыслах нотирования фольклорных явлений и авторской музыки. Остановимся на этом подробнее.
Любая письменная система, будучи коммуникативно обратимой, решает две главные задачи. С одной стороны, она фиксирует определённую, заранее заданную языковую реальность. С другой — предполагает, проектирует предстоящие воспроизведения этой более или менее подробно запечатленной реальности. Поскольку это воспроизведение, как правило, подвержено непроизвольному варьированию, соответствующая система письменности тем самым невольно воздействует на дальнейший ход развития самого языкового процесса 19.
Соответственно письменность, в том числе нотная, имеет как бы две ипостаси — запечатляющую и предписующую, или, если воспользоваться определениями Чарльза Сигера, дескриптивную и прескриптивную20. Эти стороны письменной фиксации, внутренне глубоко связанные, обычно взаимодействуют на более или менее равных началах. Однако в определенных условиях формирования и развития письменности одна из двух сторон может возобладать, стать доминирующей. Это в полной мере относится к нотной системе записи, и поэтому в конкретных исторических условиях она может становиться либо преимущественно дескриптивной, либо преобладающе прескриптивной.
Сам Ч. Сигер считал ярким примером подчёркнуто прескриптивного нотирования звукозаписывающую практику европейских композиторов нового времени, намеренно предписывающих правила предстоящего исполнения сочиняемой ими музыки. В противоположность этому фольклористическая нотация представлялась ему типичным проявлением дескриптивного нотирования, то есть фиксацией уже отзвучавшего материала.
С такой точкой зрения можно было бы вполне согласиться, если не учитывать некоторых особенностей функционирования фольклорных нотировок в культуре. Если бы единично звучащему фольклорному акту соответствовал также единичный факт нотации, и результат этой нотации прямым ходом направлялся в фольклорный архив и никак и нигде больше не использовался (кроме как, разумеется, для аналитических процедур), то можно было бы считать это проявлением исключительно дескриптивным. Однако запись фольклорного звучания (или, как часто говорят, расшифровка) осуществляется с разными целями, и в том числе отнюдь не исключающими последующее воспроизведение. В тот момент, когда такую расшифровку берёт в руки композитор или исполнитель, она начинает играть по существу ту же самую роль, что и любой нотный текст в профессиональной музыке. И всё же, если отнестись внимательно к тому, что именно стоит за нотным текстом в авторской музыке и что стоит за нотировкой в фольклоре (то есть к тому, что находится по разные стороны границы, разделяющей устную и письменную культуры), то, наряду с определенным сходством, можно обнаружить немало и существенных различий.
В каком-то смысле композиторский нотный текст также может быть рассмотрен как фиксация лишь одной, первой, исходной исполнительской интерпретации — интерпретации, существующей пока лишь в замысле композитора. С помощью определённой последовательности нотных знаков композитор по существу закрепляет возникающую в его сознании последовательность звуков и тем самым фиксирует единичный и всегда индивидуальный процесс создания конкретного музыкального произведения, которое до этого в данном виде никак — ни потенциально, ни в действительности — и нигде не существовало. При этом автор отдаёт себе отчёт в том, что, даже находясь в русле определённой стилевой традиции, он придерживается сознательной установки на обновление этой традиции, более того — на утверждение собственной, и ндивидуальной творческой воли, на вполне самобытное, неповторимое творческое изобретение.
За фольклористической же нотацией стоит образец, уже проживший, как правило, достаточно долгую жизнь в неисчислимом количестве вариантов, в большинстве случаев — уже существенно изменившихся по сравнению со своей весьма гипотетической первоначальной версией. Фольклористическая нотация фиксирует один из многих, но далеко не первый и не единственный вариант песни, инструментального наигрыша и т. п. Разумеется, при этом схватывается и момент творчества, однако это творчество диктуется установкой не на преобразование или обновление традиции, а на её поддержание и воспроизведение. В этом смысле фольклористическая нотация может быть воспринята как нотная запись какого-то одного-единственного сохранившегося варианта созданного много веков назад анонимного авторского произведения.
По существу сходная ситуация (при всём различии вербального и невербального начал) констатируется и исследователями устно-поэтического творчества. Вот как, например, характеризуются специфические трудности изучения языка фольклора по сравнению с исследованиями литературного процесса одним из современных фольклористов-словесников:
«Если в толковом сочетаемостном словаре литературного языка эксплицирует-ся прежде всего интуиция лингвиста-носителя языка, то здесь (в фольклоре.— Э.А.) лингвист работает как бы с "неродным" языком одного автора — создателя бесчисленного количества художественных текстов. Однако тексты этого автора существуют в нескольких территориальных разновидностях, при этом нет общепринятой нормы, на которую можно ориентироваться. В этом смысле язык фольклора близок к диалекту, вернее, ко многим диалектам... Однако при изучении языка фольклора мы не можем пользоваться приёмами исследования диалектной лексики. Носитель диалекта — информант — может отвечать на разные вопросы, связанные со смыслом и употреблением слова. Для языка фольклора таких информантов нет. В этом смысле он близок к мёртвым языкам, от которых остались тексты без их носителей, носители же языка фольклора, хотя и живы, но "отвечают" только целыми текстами» 21.
Ещё одно немаловажное отличие нотаций устной музыки по сравнению с нотированием в письменной культуре заключается в том, что развитие самой устной культуры в среде носителей фольклора никак с массивом существующих нотаций не соотносится. Никакая единичная фольклорная нотация функции сверочного материала или функции текста, по которому разучивается фольклорный образец, не выполняет. В письменной же культуре воспроизведение композиторского произведения обязательно предполагает внимательное ознакомление с нотным текстом.
Ряд глубинных различий между нотацией композиторской и нотацией фольклористической обусловливается тем фактом, что в письменной культуре (в противоположность фольклору) отсутствует установка на исключительно устную передачу традиции. Нотация задействована практически во всех звеньях становления и поддержания авторской музыкальной традиции, и в первую очередь в практике обучения со всеми сопровождающими её моментами. Во-первых, для письменной культуры обязательно овладение нотной грамотой (во всяком случае — для самих создателей и исполнителей авторской музыки); во-вторых, освоение (и историческое, и теоретическое) традиции также неотделимо от изучения и анализа определённого набора нотных текстов. Можно легко предположить, что без оперирования средствами графической фиксации композиторская музыкальная культура, если бы и смогла вообще сложиться, то в процессе исторического развития выкристаллизовалась бы в совсем иные формы и жанры, выработала бы совсем иную «лексику» и синтаксис по сравнению с теми, которые мы наблюдаем сегодня. В этом нетрудно убедиться, сравнив по разным показателям композиторскую музыку, то есть творчество музыкальных писателей, с существующей и процветающей во многих культурах профессиональной музыкой устной традиции. Разумеется, речь не идёт здесь о степени сложности и художественных достоинствах возникающих таким образом форм — в конечном счете, никто ещё не доказал, чтό именно оказывается более сложным — европейская симфония или индийская рага и азербайджанский мугам. Речь должна идти о совершенно различных механизмах возникновения и функционирования самих этих форм.
Ещё одна важная функция нотной записи — служить материалом для исследования и теоретического осмысления музыки. В письменной культуре, как только что было сказано, эта функция тесно связана с процессом обучения. Поскольку процедура нотирования как бы находится вне сферы фольклора, постольку для самой устной культуры эта функция нотного текста вроде бы неактуальна. Однако, помимо того, что аналитический момент неизбежно присутствует в самом процессе нотирования и в этом смысле не может быть от него безболезненно отторгнут, нотации фольклорных образцов всегда рано или поздно становятся объектом теоретического исследования, хотя исследование это, как правило, ведётся представителями письменной, а не устной культуры.
Академическая теория авторской музыки, анализируя нотные тексты, нередко как бы намеренно отвлекается от того факта, что этот текст не тождествен музыкальному произведению и является лишь отражением, своего рода моделью текста звучащего. Так же, по существу, сплошь и рядом поступает и музыкальная фольклористика, когда обращается к анализу своего нотного материала. Хотя ведь ещё в середине прошлого века любому грамотному ценителю музыки было ясно, что «всякие ноты только тень мотива, и если исполнять их без разумения, то выйдет тоже тень, сколок мотива, не всякому понятный», и что «ошибочно считать ноты песни за самую песню, тогда как они только мертвые буквы, намек на неё, подобно тому, как драма в чтении только намёк на сценический эффект» 22. Тем не менее, вслед за академической теорией, считающей, что она изучает не модели, а реальные звуковые объекты, музыкальная фольклористика нередко впадает в аналогичный грех, что тем более удивительно, что при этом она испытывает, как уже говорилось, целый ряд неудобств, вызванных несоответствием слуховых представлений фольклориста тем ощущениям, которые возникают у него в процессе чтения или воспроизведения нотации. И здесь становится важным различие в степени соответствия нотного текста самим звучащим объектам в письменной и устной культурах. Различия (и, разумеется, сходства) обнаруживаются при выяснении того, что именно схватывается нотным текстом в реально звучащем материале, а что остаётся за пределами этого текста.
Композитор, создавая нотный текст, выбирает ту степень соответствия между комплексом нотных знаков и воображаемым звучанием, которая, в конечном счете, очерчивает некое ограниченное поле интерпретаций его произведения. Кроме того, он опирается на определённую традицию прочтения данной системы записи, а потому степень детализации нотного текста, степень его снабжённости диакритическими знаками и словесными и прочими дополнительными обозначениями зависит от сознательной позиции автора. То есть, записывая своё произведение, композитор прогнозирует реальное звучание этого произведения в очень большой степени. В любом случае, нотный текст схватывает наиболее коренные, сущностные особенности авторского замысла и может оставить без особого внимания целый ряд моментов, хотя и привлекательных для композитора, но не угрожающих идентификации произведения.
Фольклорист же в тот момент, когда он представляет собой всего лишь «механизм» для перекодировки звучащего текста в нотный, фиксирует всё, что он в данный момент слышит, стремясь к наибольшей детализованности нотного текста, поскольку в его задачу входит возможно более точная запись высотно-временных отношений. Упускать какие-то детали — значит для фольклориста фиксировать не то звучание, не то исполнение, и в конечном итоге — не тот фольклорный объект, который запечатлен фонозаписью, а это противоречило бы исходной установке на запечатление конкретного варианта. И именно здесь вступает в силу различие в самой сущности стоящих за нотным текстом реалий письменной и устной культуры. В фольклористической (и особенно, в предельно добросовестной, квалифицированной, предельно детализированной и подробной) нотации и сущностные, конституционные свойства фольклорного образца и его вариантные, случайные (иногда в буквальном смысле этого слова), и даже дефектные, с точки зрения традиции, свойства нередко выглядят равнозначными, выровненными, не отличающимися друг от друга.
Более того, существует и такая точка зрения что «в записанном тексте структура фольклорной единицы может и не манифестироваться» 23, то есть глубинное содержание фольклорного сообщения может вообще не найти отражения в самих способах его письменной фиксации. Особенно наглядно это выступает в ситуации ритуально-обрядового поведения, когда реализация звучащего текста связана, например, с магическим действием, неразрывно входящим в содержательную структуру его единиц.
Отсюда проистекает одно важное следствие: имея определённый, репрезентативный набор композиторских нотных текстов, мы можем исследовать закономерности, присущие соответсвующей письменной культуре в качестве структурно значимых. Применительно же к массиву фольклористических нотаций, подобное исследование приобретает совершенно иной характер. Здесь становится необходимой предварительная, достаточно строгая и доказательная дифференциация существенных, содержательных моментов звучания, его внутренне-организующих свойств от избыточных, внешне вариативных, факультативных моментов, лишь затеняющих смыслонесущую структуру целого. А это с неизбежностью требует глубокого и адекватного вхождения в данную конкретную традицию, её восприятия изнутри, претендовать на которое можно лишь в результате досконального изучения соответствующей устной культуры.
Возникающая в этой связи проблема «двойной аккультурации» фольклориста-нотировщика, его равнорезультативного вхождения в обе культуры — в предоставляющую ему средства фиксации письменную и в так или иначе описываемую устную, — не может быть, к сожалению, рассмотрена в настоящей работе во всей её полноте 24. Ясно, тем не менее, что характер и степень этой аккультурации существенно отражаются на особенностях и качестве продуцируемых им (фольклористом) нотных текстов. Разумеется, здесь не рассматриваются и такие моменты, как ограниченность слуховых способностей нотировщика или недостаточное владение им нотной грамотой. Совершенно очевидно, что весьма часто встречающиеся существенные разночтения при нотировании разными фольклористами одной и той же фонозаписи вызваны отнюдь не недостатком квалификации, а какими-то более глубокими причинами. Достаточно известен и тот факт, что ощущение несоответствия часто возникает в момент одновременного прослушивания звучащего образца и прочтения его детализированного нотного текста. Именно этого рода явления и засталяют предполагать, что технические способности расшифровщика сами по себе ещё не обеспечивают успеха в достижении высокой степени соответствия нотного текста звучащему образцу. Ибо оценка этого соответствия каждый раз предопределяется собственной позицией воспринимающего по отношению к каждой из двух взаимодействующих систем — фиксирующей и фиксируемой,— и притом позицией, формируемой вполне конкретными теоретическими представлениями, сложившимися в результате всегда индивидуального слухового опыта.
Вообще говоря, было бы значительно корректнее провести сравнение фольклористической нотации с более близким ей по сути явлением внутри письменной культуры — с расшифровкой исполнительских версий композиторской музыки. Наблюдаемые в последнем случае разночтения нередко не уступают вариативности фольклорных интерпретаций. Во всяком случае, немногие существующие в этой области исследования указывают на весьма высокую степень исполнительского отхода от авторского нотного текста 25.
Итак, представления человека, осуществляющего нотную запись какой-либо музыки, явно небезразличны к результату, то есть к создаваемому им нотному тексту. Это чрезвычайно существенно, ибо, говоря о достоинствах и недостатках, репрезентативности и нерепрезентативности, адекватности и неадекватности нотаций, мы часто забываем о том, что они — непосредственный продукт слуховых представлений нотировщика.
В своё время К.В. Квитка отмечал, что «теоретические идеи и навыки не могут не отражаться в нотных записях: они в значительной мере обусловливают даже способ восприятия напева, не только способ нотного его изображения» 26. Логическим продолжением этой мысли может быть тезис о том, что нотное письмо в целом является одним из способов освоения и осознания конкретной музыкальной практики. То есть между системой нотного письма и теоретическими установками нотировщиков, как уже было отмечено, обнаруживается тесная связь и осуществляется активное взаимодействие. С одной стороны, «нам удобно различать то, что мы умеем фиксировать» 27, но, с другой — мы можем фиксировать только то, что научились различать. Взаимообусловленность теоретической концепции, которой придерживается (интуитивно или сознательно) фольклорист, и способа нотной записи фольклора особенно заметна, когда речь идёт о малоизученных устных культурах, поскольку именно при их записи нивелирующее действие общераспространённых теоретических представлений оказывается особенно сильным. Перво-открыватели того или иного музыкального фольклора, пребывая под воздействием устоявшихся теоретических стереотипов, могут или вовсе не замечать явлений, в которых как раз и концентрируется его своеобразие, или же считать эти явления не заслуживающими внимания и фиксации в нотном тексте. Тот же К.В. Квитка писал по этому поводу: «Такое положение дела характерно для начальной стадии собирания в различных национальных областях; эта стадия продолжается до тех пор, пока не появляются теории национальной музыки, но и после того не обрывается совершенно — остаются собиратели, неспособные постигнуть эти теории или скептически к ним настроенные» 28.
Своеобразный парадокс возникает и в том случае, если фольклорист убеждён, что его нотация может быть материалом для звукового воспроизведения. Независимо от его мировоззренческих установок по отношению к фольклору, он в этот момент оказывается на той же позиции, что и композитор, использующий записанную народную мелодию в своём произведении или обрабатывающий её в традиционном стиле 29. Для них обоих фольклор предстаёт как сумма единичных музыкальных или музыкально-поэтических произведений, поддающихся достаточно чёткой и однозначной фиксации и, следовательно, в принципе могущий быть воспроизведен исполнителем, владеющим нотной грамотой. Нотный текст в подобном случае как бы сам собой подразумевает беспрепятственную декодировку и обратный перевод в реальное звучание.
И действительно, в современной исполнительской практике нередки случаи, когда народная песня, исполненная профессиональным певцом и тиражированная средствами массовой коммуникации, становится эталоном не только для последующих профессиональных интерпретаций, но и для самих фольклорных исполнителей. Более всего это относится к популярным и общеизвестным народным песням. Существенно при этом, что фольклорные певцы (вероятно, вследствие престижа, которым пользуются в их среде грампластинка, радио и телевидение) искренне убеждены, что данная песня до сих пор пелась ими неправильно и что на пластинке, в кино или в эфире она исполняется так, как её надлежит петь. Определённую роль при этом играет и то обстоятельство, что певцы академического толка или, скажем, эстрадные исполнители обращаются, как правило, к упрощенным вариантам песни, «усредненным» с точки зрения локальных певческих стилей, вне которых истинный фольклор немыслим. Такие усредненные песенные варианты схватываются слухом без особого напряжения, подражание им не требует какого-либо специального певческого мастерства, трудного вхождения в определённую, специфическую исполнительскую традицию. Песня в таком виде становится общедоступной в самом приземленном смысле слова. Лёгкость воспроизведения подобного варианта является дополнительным фактором привлекательности для носителей фольклора, и таким образом формируется сознательная ориентация на единственный, часто не обязательно лучший образец. Для нас же в подобной ситуации важно то, что свойством эталонности в таких случаях наделяются все элементы звучащего в средствах массового тиражирования образца, и что весь звучащий таким образом текст становится инвариантным для последующих устных интерпретаций.
Итак, следует подчеркнуть, что зафиксированный в нотной графике народно-песенный вариант, предназначаясь для последующего публичного исполнения, становится инвариантом дальнейших разночтений. Подобный текст фиксирует в качестве инвариантных те элементы звучащей структуры, которые в самой фольклорной традиции инвариантными не являются. (Не говоря уже о том, что применительно к фольклору говорить об инварианте как о целостном, отдельно и реально существующем объекте не приходится.)
Таким образом, фольклористическая нотация как бы вступает в противоречие с закономерностями устной традиции, решительно переводя отдельные её образцы в русло традиции письменной. С момента нотирования бытие песни становится иным в том случае, если она по этой нотации начинает воспроизводиться. Фольклорный вариант, зафиксированный в нотах, начинает свою новую жизнь в облике анонимного опусного произведения и, как было сказано, даже при возвращении в среду фольклорных исполнителей этого статуса обычно уже не меняет.
Исходя из этого, музыкальную нотацию нельзя рассматривать как действенное средство сохранения фольклорных ценностей, во всяком случае — до тех пор, пока она остаётся в описанном мною виде. В преобладающем большинстве случаев накопленные архивы нотаций можно с достаточным основанием сравнить с музеями восковых фигур, сохраняющих внешнее сходство с живыми людьми, по образу которых они создавались. И так же, как нельзя вдохнуть подлинную жизнь в эти фигуры, трудно оживить и фольклористические нотации. Если в письменной культуре нотные тексты являются её весьма представительной документацией, то для фольклора и эта функция, строго говоря, не выполняется даже всей совокупностью существующих нотных текстов.
Как было сказано, в письменной музыкальной культуре традиция кодирования звучания средствами пятилинейной нотации складывалась параллельно с традицией декодирования, чтения текстов. Для фольклорной культуры собрание нотаций оказывается «жилым массивом», ключ от которого до поры до времени не выдаётся. Традиция достоверного, вполне осмысленного прочтения фольклорных нотаций не возникает.
Всё это приводит к выводу, что по отношению к письменной и устной культу-рам нотировщик выступает в разной и весьма странной роли. Если можно представить себе переводчика, который, понимая один язык, говорить и писать может только на другом, то именно с таким переводчиком можно сравнить фольклориста в момент нотирования. Написанный им текст прочитывается только на одном языке, а текст, звучащий на другом, по написанному воспроизведен быть не может.
Известно, что если та или иная система письменности достаточно жёстко привязана к структуре языка, то сам процесс записи формирует структуру высказывания. Это легко себе представить, сравнив какое-либо монологическое высказывание в процессе устного бытового общения с тем же сообщением, посылаемым письмом. Сама необходимость писать заставляет нас по-иному формулировать свои мысли, выбирать определённый порядок слов, да и само словоупотребление. Не случайно и другое различие: устная речь грамотных людей заметно отличается от речи людей неграмотных (что вовсе не исключает её нередкой привлекательности).
Та же закономерность просматривается и в деятельности нотировщика. При соприкосновении с фольклорным материалом в ней появляется определённый искажающий момент, заставляющий музыканта слышать в качестве главных элементов те, которые он способен записать (то есть сформулировать в нотных знаках), и невольно игнорировать как неважные или случайные те моменты, которые он письменно оформить не может. При всем стремлении максимально подробно зафиксировать звучание возникает парадоксальная ситуация, когда фольклорист-нотировщик оказывается во власти двух противоречивых тенденций: выведении разнозначимых элементов на один уровень (об этом уже говорилось) и подсознательного исключения моментов, не поддающихся фиксации. Обе тенденции работают в одном направлении — усиливают искажающий эффект нотной записи по отношению к звучащему тексту.
Опять-таки здесь возникает вопрос о том, в какой именно культуре воспитан сам нотировщик. Если, допустим, он нотирует какую-либо звучащую исполнительскую версию композиторского произведения, вполне ориентируясь при этом в стиле данного автора, есть вероятность того, что хотя бы в крупном плане его слух будет дифференцировать значимые элементы формы (в широком смысле слова) в большом приближении к оригиналу. То же — и при нотировании фольклорных образцов. Степень приближения к истине будет зависеть от степени аккультурации нотировщика в данной фольклорной среде. Искажающие моменты, о которых говорилось выше, окажутся тесно связанными, помимо уровня общей грамотности нотировщика, с мерой его вживания в фиксируемую устную культуру и во многом будут обусловлены этой мерой.
Рассматривая таким образом сходные и различные функции нотации применительно к письменной и устной сферам культуры, мы вынуждены констатировать достаточно сложную ситуацию, поскольку простой перечень функций мало что проясняет в интересующей нас проблеме. Попробуем внести большую ясность, сопоставив описанный набор функций в сводной таблице, разграничивающей с этой точки зрения композиторскую и фольклорную сферы (наличие или отсутствие в них соответствующих функций, а также проблематичность некоторых из этих функций отмечены знаками «+», «—» и «?»).
Анализируя эту несложную таблицу, легко выделить три группы функций:
1) функции, актуальные только для письменной культуры;
2) функции, действующие (разумеется, с определёнными нюансами) в обеих культурных сферах, и
3) функции, либо значимые только для устной музыки, либо вообще сомнительные как в устной, так и в письменной областях культуры.
Нетрудно видеть, что наибольшие различия наблюдаются в функциях, так или иначе связанных с прескриптивными и дескриптивными свойствами нотации (см. особенно функции 2 и 4).
Если в пределах письменной культуры ввести дополнительное разграничение на непосредственно композиторскую нотацию и на изредка применяющиеся расшифровки исполнительских реализаций, о которых речь шла выше, то функции нотировочной деятельности в письменной и устной культурах выявятся ещё более рельефно. Можно сказать, что фольклорные нотации и расшифровки индивидуальных интерпретаций авторской музыки выполняют во многом сходные функции, с той только разницей, что область функционирования нотных текстов не является для письменной культуры принципиально чуждой (в отличие от положения в устной фольклорной культуре), и что, следовательно, деятельность нотировщика исполнительских версий опусных произведений находится внутри той же культурной традиции, к которой принадлежит само музыкальное произведение на всех стадиях своего возникновения и существования и во всех своих ипостасях.
Тесная взаимосвязанность двух сфер в рамках письменной культуре (функционирование нотных текстов и устная форма реализации произведения) обусловливается, в конечном счете, единством языка и мышления данной культуры. Не затрагивая эстетико-философских аспектов этой связи, отметим как бесспорный и принципиально важный факт присутствие в арсенале письменной культуры такого мощного средства целостной организации данного типа культуры, как уртекст, которым фольклорная культура, к сожалению, не располагает. Можно с полным основанием предположить, что принадлежность композитора, исполнителя и нотировщика к одной и той же культуре существенным образом сказывается на соотношении уртекста и последующих исполнительских нотировок — прежде всего в плане их близости на синтаксическом уровне. Не случайно Л.Н. Лебединский, прекрасно владеющий техникой фольклористических расшифровок, в которых проблема тактирования является одной из решающих, вообще счёл возможным обойти эту проблему, сопоставляя расшифровки шаляпинских исполнительских версий с композиторским текстом, и по существу сохранил авторские тактовые членения независимо от возникающего тактового разнобоя, то есть в каком-то смысле придал тактовым чертам не метрический, а синтаксический смысл 30.
Можно теперь предположить, что, располагая достаточно представительным набором нотных расшифровок различных исполнительских вариантов одного и того же произведения, нотировщик-исследователь, действующий в рамках письменной музыкальной парадигмы, вполне способен в общих чертах восстановить почему-либо утраченный авторский текст. Успех данной операции в основном будет зависеть от двух условий — от компетентности исследователя и от репрезентативности (в том числе количественной) нотированных вариантов. Но, собственно говоря, сходная возможность открывается и перед фольклористом, исследующим ту или иную устную культуру. Располагая достаточным количеством нотировочных версий одной народной мелодии и будучи осведомлен по части механизмов её формирования и функционирования, он получает возможность реконструировать гипотетический инвариантный облик данной мелодии, рассматривая его затем как основу для сопоставления и систематизации имеющихся у него вариантов. Искусственно выведенный таким способом инвариант фольклорного напева до некоторой степени может играть роль, аналогичную роли уртекста в композиторской музыке.
Разумеется, коренные различия, определяющие специфику устного и письмен-ного типов творчества, таким образом не снимаются. Однако реальное соотношение двух музыкальных субкультур выступает в результате значительно отчётливее и может быть отражено в предлагаемой здесь схеме:
Рассматривая предложенную картину взаимодействия музыкальных деятелей, нотных текстов и реальных звуковых структур, нетрудно заметить, что композитор и нотировщик (то есть авторы нотных текстов), текст авторского произведения (уртекст, его эскизы или последующие редакции) и прочие нотные тексты, включая композиторские записи фольклора (обработки), фольклористические нотации и нотации исполнительских версий композиторской музыки располагаются как бы в одном общем культурном поле. Общение композитора и исследователя с нотными текстами, таким образом, происходит на языке одной культуры, осуществляется непосредственно — путём чтения текстов. Причём исследователь может одновременно обращаться и к уртекстам, и к нотировкам их исполнительских реализаций. Исследователь тем самым работает с двумя рядами фактов — нормативным (уртекстом) и вариантным (текст версии). Для исследователя фольклорной культуры подобной двуплановости, к сожалению, не существует. Он имеет дело по существу лишь с вариантным рядом — с подборкой фольклористических расшифровок. Выведение же норматива (не существующего в природе фольклорного инварианта) требует специальной и не во всех отношениях бесспорной аналитической процедуры. Норматив здесь в одно с ним поле не попадает — если он и обнаруживает себя в виде каких-либо предпосылок в устном поле фольклорной деятельности, то, во всяком случае, непосредственной фиксации не поддаётся.
Далее. Если уртекст (как проект звуковой реализации), будучи прочитан исполнителем, реализуется в устной сфере письменной культуры (то есть обслуживает потребности той культуры, в рамках которой он создан), то фольклористическая нотация в сфере фольклорной культуры никак не реализуется, а в лучшем случае достигает её через реализацию опять-таки в устной сфере письменной культуры. (Не случайно в нашей схеме обращает на себя внимание некая резервная зона в поле устной реализации письменной культуры, предполагающая особый тип исполнителей, владеющих, наряду с нотной грамотой, навыками устного музыкального общения, то есть способностью оживлять фольклористические нотации в формах, приемлемых для устной фольклорной культуры.)
Связь между устной фольклорной культурой и сферой письменной музыки оказывается односторонней.
Музыкант, воспитанный в письменной парадигме, умеет писать тексты, читать и озвучивать их в рамках усвоенной им культурной традиции. Озвучивание может быть условным (например, чтение симфонической партитуры на рояле), что, тем не менее, не сказывается на степени понимания текста. В случае же с фольклористической нотацией ситуация складывается по-иному. Исследователь фиксирует фольклорный образец, переводя его звучание в письменный текст, но чтение и озвучивание этого текста происходит лишь в рамках письменной традиции, ибо это — именно озвучивание текста.
Таким образом, в связях фольклорной культуры и культуры письменной постоянно недостаёт каких-то важных звеньев, делающих эти связи двусторонними. Подчеркнём этот момент, поскольку он станет одним из отправных в наших последующих рассуждениях.
Возвращаясь к таблице 2, обратим внимание на её последнюю позицию, помеченную знаком вопроса. В ходе предпринятого до сих пор рассмотрения выяснение возможностей пятилинейной системы нотации как средства ознакомления с широким кругом локальных музыкальных культур, то есть вопрос о степени универсальности этой системы, пока ещё остаётся большой проблемой. Приспособленная под грамматики определённого круга музыкальных языков, пятилинейная нотация (с учётом предлагаемых фольклористами модификаций, значительно рас-ширяющих её возможности) способна, очевидно, охватить и некоторый набор их «диалектов». Что же касается разрешающих возможностей нотной системы письменности по отношению ко всем без исключения музыкальным языкам, то корректное рассмотрение этих возможностей окажется реальным лишь тогда, когда музыкознание, определив само понятие музыкального языка с той же степенью убедительности, которая достигнута лингвистикой, научится распознавать эти языки, сопоставлять их и однозначно выводить соответствующие им грамматики. Пока же мы намеренно оставляем эту проблему в стороне, тем более, что наша задача — выявить ещё не полностью используемые ресурсы пятилинейной нотации применительно к уже освоенному фольклористикой кругу устных музыкальных культур.
Подводя итог данному разделу, резюмируем наши наблюдения в виде ещё одной таблицы, отражающей объективную, с нашей сегодняшней точки зрения, картину функционирования фолькористической нотации в её сопоставлении с нотными текстами письменной, композиторской культуры, с тем чтобы в следующем разделе рассмотреть, каким образом эта картина может трансформироваться по мере дальнейшего развития музыкальной фольклористики. Таблица эта даёт, как нам кажется, возможность уяснить, как по-разному реализуются сегодня казалось бы общие для двух сфер музыкальной культуры функции нотного письма.
Рассмотренные в предыдущих разделах ситуации могут дать повод для скептических заключений. Сколько бы ни пыталась фольклористическая нотация исчерпывающе отразить многообразную народно-музыкальную практику, это ей далеко не всегда удаётся сделать. Казалось бы, этого достаточно, чтобы отказаться от дальнейших попыток усовершенствовать пятилинейную нотную графику и поискать, быть может, какие-либо иные письменные системы, как в арсенале прошлого, так и среди новых, время от времени выдвигаемых реформаторских проектов. Однако отказ от веками складывавшейся и постоянно совершенствующейся системы целесообразен только тогда, когда её внутренние возможности оказы-ваются исчерпанными. Пока же эта система жизнеспособна и обнаруживает резервы перспективного развития, изъятие её из научно-практического обихода принесёт несомненно больше вреда, чем пользы, особенно если учесть колоссальный объём уже накопленных нотных материалов, опыт и сложившиеся традиции, в том числе традиции теоретического осмысления этих материалов. Кроме того, отказ от нотной фиксации фольклора серьёзно нарушил бы и без того весьма проблематичные, но жизненно важные связи между устной и письменной культурами.
Следовательно, пятилинейная нотация требует дальнейшего развития, и это закономерно вытекает из фольклористической практики последних лет. Однако развитие это, как представляется, должно быть значительно более целеустремленным, менее стихийным, чем прежде. И потому имеет смысл отчётливее сформулировать, что мы, собственно, хотим от фольклористической нотации, с одной стороны, и на что при этом можем рассчитывать — с другой.
1. Всякая нотация в принципе является моделью звучащего объекта. В композиторском творчестве нотация — это своего рода модель-проект. Именно проективность позволяет ей активно функционировать в культуре, порождать новые звуковые факты. Традиционная фольклорная нотация, будучи преимущественно дескриптивной, значительно более ограничена в своем функционировании, поскольку в лучшем случае она способна порождать лишь опосредованные отголоски запечатляемой ею музыкальной реальности. Как было уже отмечено (см. схему на с. 37 в предыдущем разделе), аналитическая фольклорная нотация лишь в единичных случаях становится предметом внимания и интерпретации со стороны профессионалов-исполнителей. Её путь к слушателю значительно более труден и извилист: к ней обращаются прежде всего как к материалу для создания обработок или для заимствования отдельных элементов, используемых в композиторской музыке. И уже через обработку или оригинальный композиторский опус зафиксированное в фольклористической нотации реализуется в звуковой практике. Самой же нотации фольклора явно недостаёт именно проективных свойств.
Заметим ещё раз, что само появление так называемых аналитических нотаций в эпоху преобладания транскрипционных тенденций в фольклористике в известной степени отразило потребность преодолеть дефицит проективности. То есть сама фольклористическая практика естественным путём подошла к необходимости разрешить сложившееся противоречие. Следовательно, придание фольклористической нотации повышенной степени проективности можно считать одной из основных задач наступающего периода. Решение её позволит в значительной мере изменить характер функционирования фольклорного материала в культуре, сделать это функционирование более продуктивным.
2. Та же фольклористическая практика показывает, что потребность в изменении принципов и методов нотирования возникает тогда, когда изменяющиеся представления о фольклоре как о своеобразном культурном феномене приходят в противоречие со средствами отражения этих представлений в нотации. В настоящее время это противоречие ощущается особенно сильно. Наши знания о природе фольклора значительно обогнали накопленные средства нотного выражения. И поскольку любая нотация является отражением исследовательских и общих, социокультурных установок фольклориста, желательно, чтобы это отражение было по возможности более полным. Поэтому второй задачей новой нотации следует признать приведение её в соответствие с современным представлением о природе и особенностях фольклорной коммуникации.
3. Как и прежде, за нотацией сохраняется роль незаменимого способа исследования музыкально-фольклорной реальности. Всё чаще предпринимаемые попытки машинного анализа звучащих текстов пока что значительно уступают нотациям в простоте, наглядности и представительности подлежащей осмыслению информации. И именно с целью достижения корректности, полной достоверности в передаче этой информации и следует совершенствовать существующую методику нотирования фольклора. Функция основного, пока едва ли не единственного канала и средства ознакомления аналитически-письменной культуры с устной должна выполняться фольклористической нотацией на новом уровне, сводящем к минимуму все искажающие моменты.
4. Будучи реальной предпосылкой и способом проникновения во внутреннюю, содержательную структуру звукового фольклорного высказывания, нотация, тем не менее, ещё не стала полноценным средством общения между письменной культурой и фольклором. Коммуникация между ними носит всё ещё подчёркнуто односторонний характер: письменная культура познаёт фольклор, но результаты этого познания непосредственно на судьбе фольклора не сказываются. (Разумеется, здесь имеется в виду подлинное проникновение исследователей в сущность фольклора, а не та некачественная исполнительская трактовка, которая с помощью средств массовой информации нередко приводит к весьма нежелательной трансформации фольклорных традиций.)
В связи со всем сказанным чрезвычайно важным представляется сообщение фольклористической нотации новых свойств, которые сделали бы её значительно более качественным посредником между устной и письменной культурами. Это становится своего рода сверхзадачей фольклористической деятельности, и этот вопрос следует рассмотреть здесь несколько подробнее.
Как не раз уже отмечалось, реальное взаимодействие и полноценное функционирование письменной и устной культур рождает параллельное бытование двух языков (не в строго семиотическом смысле этого слова) — письменного и устного. Язык письменной культуры имеет тенденцию к всеобщности. Овладение этим языком накладывает определённую печать и на речь, и на мышление. Причём овладение музыкально-письменным языком, как это ни парадоксально, происходит не только путём постижения нотной грамоты как таковой, но и путём усвоения на слух стереотипов письменной культуры, которые не только господствуют и определяют ситуацию в устном её слое, но, благодаря средствам массовой коммуникации, достигают чрезвычайно широких, практически ничем не ограниченных пределов. Язык письменной музыки прививается исподволь, и в устной культуре под его влиянием возникают новые «словоупотребления». В итоге постепенно трансформируется и сама устная речь. Напротив, язык фольклора приживается в недрах письменной культуры с большим трудом. Воспринятая композиторским или исполнительским слухом профессионалов фольклорная музыка, как правило, переосмысливается в рамках привычного для них письменного языка. Фольклорные же стереотипы речевого поведения сами собой в письменную культуру, как правило, не переходят. (Отдельные эксперименты в этом направлении, предпринимаемые некоторыми современными авторами, ситуации в целом не меняют.) Иными словами, по степени воздействия друг на друга письменная музыка и фольклор в современных условиях оказываются далеко не в равном положении. И в то же время потребность письменной культуры в живом фольклоре как источнике своего развития постоянно возрастает, что сказывается в периодически возникающих и нарастающих волнах фольклоризма, как композиторского, так и исполнительского.
Такое неравновесное противостояние культур, возможно, и не требовало бы специального вмешательства, если бы, к сожалению, не уходили в прошлое традиционные и наиболее ценные пласты народной музыки. И хотя сам по себе фольклорный процесс не останавливается, сложными путями приспосабливаясь к новым условиям, однако выработанные им культурные ценности постепенно исчезают из устного музыкального обихода. Сама по себе нотная фиксация уходящих образцов положения не спасает. Без эффективного возвращения их к устной форме бытования активно продуцирующая сфера устной культуры непомерно сужается и в конце концов грозит полностью переродиться и иссякнуть. Невольно хочется вспомнить в этой связи прозорливые слова Н.М. Лопатина: «Так или иначе, но мы постепенно приближаемся к рубежу, на коем народная песня безвозвратно погибнет, если её через этот рубеж не переведут иные силы — музыкальная наука, личный талант и вкусы интеллигенции народа» 31.
Ввиду необратимых социальных сдвигов в жизни современного общества процесс утраты определённой части фольклорных ценностей, разумеется, закономерен и неизбежен, но, если допустить, что отдельные продукты фольклорно-музыкальной деятельности могут функционировать и вне породившего их быта, то, вероятно, оптимальным способом такого функционирования должно быть всё-таки функционирование устное. А оно возможно только при условии, что сохранится язык, на котором основывалась эта музыка, то есть язык устно-музыкального общения.
А что значит сохранить язык устного общения? Язык фольклора, не предполагающий никакой письменной фиксации, реализуется только в непосредственном общении его носителей — вполне конкретных, живых людей. И для того, чтобы сохранить фольклорные ценности, нужны коллективы людей, владеющих этим языком, обученных устному музыкальному общению.
Внутри живой фольклорной традиции такое обучение протекает естественно и непреднамеренно. Однако представителю письменной культуры освоить этот язык достаточно трудно. Для него более привычен путь приобщения к музыке через нотные тексты (разумеется, при определённой «наслушанности»). Возникает дилемма: либо представители письменной традиции должны входить в фольклор тем же путем устного научения, что и сами носители фольклора, либо фольклористические нотные тексты должны поддаваться сравнительно нетрудной и достоверной, с точки зрения устной культуры, декодировке. Первый путь возможен лишь для немногих, для воспитанников письменной культуры устное вхождение в фольклор — дело долгих лет. В настоящее время этим путём идут молодёжные экспериментальные ансамбли народной музыки, ставящие своей целью перенять фольклорную традицию в её живом виде. Роль подобных ансамблей в деле сохранения фольклора становится всё более значительной, ибо, как уже подчёркивалось, нотные тексты не поддаются корректному прочтению, если читатель не аккультурирован в соответствующей традиции.
В то же время массив фольклористических нотных текстов, с которыми могут работать исследователи и исполнители, получившие специальную подготовку, — не менее необходимое условие сохранения ценностей, выработанных утрачиваемыми фольклорными традициями и продуцируемых ныне функционирующими. Такие тексты должны стать предпосылкой к воспитанию двуязычно мыслящих музыкантов, что окажется возможным только при условии, если тексты эти будут отличаться необходимыми для этого свойствами. В этом плане главной целью и сверхзадачей фольклористической нотации становится функция истинного посредника между письменной и устной культурами, посредника, который делает принципиально возможным непосредственное возвращение записанного образца в устный способ художественной коммуникации.
Применительно к фольклорным нотациям задача обратного перевода на язык устной культуры до сих пор обычно чётко не осознавалась, хотя отчасти это само собой подразумевается требованием адекватной записи. Однако адекватность эта может быть удостоверена только той же самой возможностью более или менее точного обратного перевода. Вообще говоря, как перевод на письмо, так и возврат в устную сферу музицирования всегда возможны. Любое звучание может так или иначе быть зафиксировано в нотах и любой нотно-песенный текст можно распеть по законам устной культуры. Важно только, чтобы результаты озвучивания относились к той же самой культуре, из которой были взяты исходные тексты, чтобы основные свойства и содержательные «параметры» исходных и результирующих звучаний совпадали. А это значит, что нотный текст должен быть не просто фиксацией определённой последовательности звуков, но отражением глубинных содержательных структур народно-песенной традиции.
Уже говорилось, что нотация — не есть способ поддержания жизнеспособности фольклорных явлений. Более того, она приостанавливает, консервирует процесс, прерывает его. И сверхзадача нотирования фольклорных явлений состоит в том, чтобы эта остановка не стала завершающей. Она должна выводить фольклорные тексты в иное пространство — пространство письменной культуры — таким образом, чтобы при определённых благоприятных условиях сделать возможным их возврат в устную сферу общения.
Лучшие представители русской фольклористической мысли мечтали, говоря словами Е.Э. Линевой, о том времени, «когда изучение народной песни в теоретическом отношении будет более разработано, а практическое знание её сделается достоянием большинства музыкантов и певцов, когда многие будут уметь импровизировать и сказывать песни» 32. По существу это были мечты о двуязычной музыкальной культуре, внутри которой происходил бы свободный обмен ценностями на основе равенства устного и письменного компонентов. И именно создание такой двуязычной культуры и есть та высокая цель, к которой должны быть устремлены усилия нотировщиков фольклора. Такой прицел определит и пути совершенствования фольклористической нотации, совершенствования, которое учтёт и весь накопленный исследовательский опыт, и опыт практической работы с устно-письменным материалом в фольклорных ансамблях нового типа. Синтез достижений теории и практики должен лечь в основу усовершенствованной нотации.
5. Осознание сверхзадач фольклористической нотации связано с приданием ей функций, прежде не выполняемых или выполняемых неполностью.
До сих пор всякая фольклористическая нотация была средством документации конкретного фольклорно-исполнительского акта. Аналитическая нотация уже тем, что она фиксирует не одни лишь внешние параметры звучания, но стремится определённым образом выявить и показать читателю структуру каждого образца, претендует на значение документа более глубокого содержания. Эта сторона, безусловно, требует развития в новой нотации, поскольку последняя призвана выполнять функцию документа культуры в более полном значении этого слова.
Как документ культуры нотация нового типа должна содержать всю необходимую информацию, чтобы совокупность подобных документов могла стать средством реконструкции этой культуры (разумеется, в определённых пределах).
Выполнение двух последних функций (как документа культуры и как средства её реконструкции) возможно только в том случае, если фольклористическая нотация будет достаточно представительной для описываемой ею культуры, то есть если в ней будут отражены проявляющиеся в конкретном образце элементы языка, основные свойства речевого акта, выявлены общие модели мышления, программирующие данный речевой акт. Кроме того, в каждой конкретной нотации должны так или иначе найти отражение соответствующие установки как исследователя-нотировщика, так и исполнителя. (Последнее представляется, пожалуй, наиболее трудным для выражения в тексте нотации.)
Можно предположить, что, обладая названными свойствами, фольклористическая нотация сможет, наконец, выполнить и наиболее сложную из перечислявшихся в предшествующем разделе функций — стать средством ознакомления с различными музыкальными языками фольклора, а быть может, и способом вхождения в них.
Выполнение данной задачи, естественно, немыслимо без предварительной, хотя бы самой общей классификации языков музыкального фольклора. Сама эта классификация представляет собой проблему сверхтрудную, разрешение которой потребует специальных исследовательских усилий. В настоящее время теоретическая фольклористика находится лишь на подступах к этой проблеме, а фольклористическая нотация в своём сегодняшнем виде способна лишь частично помочь ей в этом, точнее — она справляется с соответствующей задачей применительно далеко не ко всем существующим языкам.
Гипотетически можно считать, что нотационная проблема разрешима сегодня только по отношению к тем языкам фольклора, которые либо вполне освоены исследовательской практикой фольклористов и так или иначе вписываются в систему её аналитических средств, либо достаточно близки к этим языкам. Что же касается малоизученных культур, языки которых в своих коренных свойствах достаточно резко отличаются от языков двух первых типов, то освоение их с помощью наработанных средств письменной фиксации и соответствующего им теоретического аппарата остаётся пока ещё весьма сомнительным.
Условно ситуацию с тремя названными типами языков можно представить в виде схемы:
Если в двух первых случаях разрешающих способностей нотной графики (в её современном, модифицированном для нужд фольклористики виде) и соответствующих теоретических представлений (моделей, концепций культуры) оказывается достаточно для того, чтобы в принципе выстроить замкнутый устно-письменный коммуникационный цикл, обеспечивающий более или менее беспрепятственное прохождение фольклорных образцов сквозь область письменных текстов, то в третьем случае, когда «конфигурация» устного языка явно не вписывается в наличествующие средства письменной фиксации, отражение соответствующих языковых фактов является лишь частичным (а следовательно, искажённым), коммуникационная цепь оказывается незамкнутой, а вторжение письменности в данную устную культуру необратимым.
Вопрос о целесообразности нотных фиксаций в последнем случае остаётся открытым, и для его решения требуются, очевидно, специальные усилия, связанные с дальнейшим совершенствованием фольклористического нотного письма и расширением его «пропускающих» способностей.
Совершенно очевидно, что, выдвигая перед фольклористической нотацией все эти задачи, следует иметь в виду отнюдь не единичный нотный текст, но фольклористическую нотацию как некое целостное явление, как совокупность нотных текстов, их представительный массив. Конечно, во всех случаях необходимо считаться с тем, уже неоднократно подчёркиваемым фактом, что всякая фольклорная нотация есть фиксация единичного музыкального события. Но специфика и достоинства истинно фольклористической нотации как раз заключаются в том, чтобы через единичное проглядывало общее, через часть — целое, через изменчивое — неизменное.
В связи со сказанным о многообразии задач и функций, встающих перед фольклористической нотацией, естественно возникает вопрос о фольклористической нотации как системе нотаций разных типов и уровней. Однако, прежде чем перейти к обсуждению этого вопроса, подчеркнём ещё один общий и важный момент.
Фольклористическая нотация, как было не раз уже сказано, немыслима вне анализа. Исследовательский подход необходим практически на всех этапах её создания — от организации звукозаписи до оформления законченного текста. Подлинно фольклористическая нотация всегда осуществляется исследователем, и в этом её отличие от механического, бесстрастного регистрирования частотных модуляций человеческим слухом или электронной аппаратурой. (В последнем случае человек и машина различаются лишь скоростью переработки информации и её объёмом).
Продуктивный анализ возможен только при условии, что исследователь вооружён теорией, адекватно отражающей закономерности исследуемой культуры. Эта теория создаётся в процессе изучения данной культуры в разных аспектах, но в том числе и в процессе оформления и исследования конкретных нотных текстов, фиксирующих музыкально-фольклорную деятельность. Казалось бы, создаётся заколдованный круг — подлинно фольклористический текст не может быть создан без соответствующей теории, а сама эта теория — без исследования конкретных текстов.
Когда-то о сходного рода противоречиях хорошо писал Аполлон Григорьев. Говоря о несовместимости расхожих теоретических представлений с народно-музыкальным сознанием, он замечал: «В собирателе песен требуется для успешного хода дела неразорванность сознания и чувства с народным сознанием и чувством. Как же, спрашивается, согласить это с музыкальным и поэтическим образованием, даже образованием вообще, которое наложило свой слой на нашу душу и которое необходимо, однако, для дела в такой же степени, как и неразорванность сознания и чувства?... Это противоречие является в виде противоречия только тем, которые смотрят на быт народный и на прошедшее народа как на нечто совершенно чуждое приобретенному ими поверхностному образованию. Первое дело, что плохо то образование, которое наложит непроницаемую кору на свежую почву души,… а с другой стороны, плоха и та почва, которой отпрыски не прорвались через накинутую на неё оболочку. Связь с жизнью, с почвой в истинно образованном человеке не прерывается образованием, а в тех, которые имели несчастье образоваться фальшиво, но у которых есть внутренний какой-нибудь запас, может быть легко восстановлена...» 33.
В нашем контексте разрешение подобного противоречия может быть достигну-то, если ввести самое общее разделение фольклористической нотации на преданалитическую, аналитическую и постаналитическую. Описанный ранее исторический путь, проходимый фольклористической нотацией, можно представить как путь от преданалитической нотации к будущей — постаналитической. В этом отношении важным переходным этапом становится борьба за утверждение аналитической нотации, а своего рода рубежным событием представляется переход от «сплошной» нотации к нотации ранжированной, поскольку в основе ранжира лежит выявление существенных закономерностей, характеризующих язык каждого конкретного образца, а тем самым и язык типологически сходных с ним проявлений фольклорной культуры.
Следовательно, преданалитическая нотация — только первый продукт, точнее — полуфабрикат фиксирующей деятельности фольклориста. Произвольная подборка таких нотаций — всего лишь необходимая предпосылка для выработки соответствующего аналитического аппарата и коррекции уже существующей теории применительно к локальному типу фольклорной культуры. И потому, вопреки доныне распространённой практике, преданалитические нотации не должны, вероятно, становиться предметом публикации (если это не является специальной задачей определённого типа изданий — методических по-собий, исследований по проблемам нотирования и редактирования фольклорных текстов).
Различение преданалитических, аналитических и постаналитических нотаций выдвигает перед фольклористом своеобразную профессионально-этическую проблему. Каждый нотировщик, в принципе, должен отдавать себе отчёт, в какой точке дистанции, разделяющей эти типы нотации (первый тип — начало исследования, второй и третий — его промежуточный и конечный результаты), находится текст, над которым он работает. Во всяком случае, он должен понимать, что нотация, выпускаемая им в свет,— показатель степени его теоретической зрелости и состоятельности. Это накладывает на фольклориста дополнительную ответственность, и без осознания этой ответственности публикуемый им материал грозит превратиться в своего рода культурный балласт.
Ощущение неблагополучия в данном отношении, связанное с теоретической «разношёрстностью» и «избыточностью» фольклористического нотного архива, возникло у фольклористов довольно давно. Косвенным подтверждением этого является то, что работа с чужими текстами нередко выливается в их перередактирование. С давних пор мотив критического перепрочтения существующих нотных текстов сквозит в выступлениях и статьях многих исследователей (вспомним уже приводившееся высказывание на этот счёт К.В. Квитки и его специальную статью по этому поводу). Это представляется вполне закономерным, когда речь идёт о нотировках фольклористического прошлого. Тем более естественно, что новый этап в развитии музыкальной фольклористики как подлинно научной дисциплины так или иначе связывается с коренным пересмотром многих ранее суще-ствовавших представлений, непосредственно отражающихся в принципах оформления нотных текстов.
Со всей очевидностью проблема согласования теоретических и практически-нотировочных принципов возникает в связи с параллельными расшифровками, синхронно осуществляемыми разными нотировщиками. Призванные представить одну и ту же локальную культуру, эти нотировки, как правило, демонстрируют удивительный теоретический разнобой, который необходимо, по-видимому, стремиться свести к минимуму. Главный путь преодоления такого рода расхождений — сознательная установка на поиски адекватных теоретических моделей для каждой конкретной народно-песенной культуры. В тех же случаях, когда поиски этих моделей ещё не дают бесспорных результатов, следует, очевидно, вносить в публикуемый текст фольклорной расшифровки только те моменты, которые отвечают требованию корректного соотношения теоретических представлений и их практических, оформляемых в нотах результатов. Так, если, например, теория, в рамках которой работает фольклорист, оказывается не в состоянии выявить синтаксические закономерности какого-либо определённого песенного типа, то, может быть, имеет смысл в относящиеся к этому типу нотировки не вносить синтаксические членения, которые подвергнутся скорому и неизбежному пересмотру. Любопытно, что призывы такого рода звучали ещё в прошлом веке. «Если бы Прач оставил свои песни без тактовых черт, — писал в 1889 году Н.М. Лопатин, — он сослужил бы большую службу сохранению русской песни» 34.
Стόит в этой связи лишний раз вспомнить слова В.Ф. Одоевского, который говорил, что к народным напевам «надлежит приступать с девственным чувством, без всякой заранее предпосланной теории, не мудрствуя лукаво, но записывая народную песнь как она слышится в голосе и слухе народа, и затем должно будет постараться извлечь из самих напевов, как они есть, их теорию» (разрядка моя. — Э.А.) 35.
Вывод, который таким образом напрашивается, достаточно очевиден: если преданалитическая нотация является сейчас «массовым», расхожим продуктом фольклористического обихода, то аналитическая и, тем более, постаналитическая становятся возможными лишь тогда, когда «из самих напевов извлечена их теория». Отсюда вытекает и новая ответственность, новые задачи научного редактора при издании фольклорных сборников, не сводящиеся к его традиционной роли и требующие от него специфической квалификации.
Следует оговорить, что переход к новым типам нотации (и особенно к нотациям постаналитическим) в той или иной конкретной культуре должен осуществляться постепенно, по мере освоения наукой всё большего количества фольклорных стилей. К тому же переход этот может происходить лишь параллельно с формированием читателей постаналитических нотаций, коль скоро такие нотации призваны стать руководством к устным интерпретациям. Очевидно, выведение фольклорных публикаций на постаналитический уровень отнюдь не упраздняет отдельных публикаций аналитического и даже преданалитического типа. Однако определённые изменения в принципах оформления фольклорных текстов должны вводиться уже сейчас. Было бы неплохо также уже сейчас осуществить ряд специальных изданий, ставящих своей целью постепенную подготовку и теоретиков, и практиков к постаналитическому нотированию. Такие издания должны иметь исследовательскую и методическую направленность и постепенно, по мере научного осмысления закономерностей устно-музыкальной практики, вводить в фольклористический обиход принципы и конкретные приёмы и процедуры постаналитического нотирования.
* * *
Поскольку постаналитическая нотация призвана рельефно, глубинно и, по возможности, исчерпывающе представлять исследуемую мелодическую культуру, необходимо отдать себе отчет в том, чтό именно в эту нотацию должно закладываться. Скорее всего, следует стремиться к максимально полному описанию культуры, к которой относится нотируемый образец. Однако эту полноту необходимо понимать не как максимум имеющихся в нашем распоряжении сведений и фактов, но как максимум значимых для данной культуры элементов.
Учитывая характер исследуемых культур в целом, их невыделенность из быта, существование в локальных, социально и этнически замкнутых общностях, специфические особенности устного типа коммуникации и многое другое, что определяет их фольклорную сущность, можно заранее констатировать, что не все значимые элементы такого рода культуры входят в звучащий и, следовательно, нотный текст. И потому сегодняшняя фольклористическая нотация — это не просто отдельная нотная строчка, заполненная большим или меньшим количеством нотных знаков, а целый комплекс разнородных текстов, характер, язык и графика которых призваны схватывать необходимые и достаточные параметры культуры. Каким же конкретно представляется этот комплекс разноязычных текстов, образующих в своей совокупности современную фольклорную публикацию?
Если не говорить специально о словесном поэтическом тексте, являющемся одним из существенных и относительно самостоятельных компонентов песенной культуры, то прежде всего — это собственно нотный текст, то есть конкретный мелодико-ритмический рисунок, который воспроизводится на традиционном нотном стане (или на системе станов — при многоголосии). В сложившейся практике нотирования фольклора собственно нотный текст, как уже говорилось, сопровождается широким набором словесных и графических помет — своего рода диакритических знаков, располагающихся как на самой нотной строке, так и над и под нею.
Вторую группу текстов, составляющих комплексную нотацию, представляют разного рода ключи, графы, схемы и формулы (буквенные и цифровые), сопровождающие основной нотный текст и задающие правила его прочтения или декодировки. Этот набор ключей-формул призван выделить основные структурные элементы фиксируемого музыкального образца в обобщенно-схематическом виде, который позволил бы читателю заранее представить основные закономерности устройства предлагаемого ему нотного текста. Эта же совокупность ключей к конкретному нотному тексту позволяет оперативно сопоставлять его с текстами других образцов.
Отметим, что уже этот блок формульных текстов требует от исследователя прочной теоретической базы и достаточно большого нотировочного опыта. Несмотря на то, что содержащаяся в нём информация касается, казалось бы, лишь вполне конкретного мелодического образца, за этим должно стоять знакомство с достаточно широким кругом типологически сходных вариантов, ибо блок этот по существу является своего рода выжимкой грамматических норм, их организующих. Гипотетически можно себе представить, что чрезвычайно одаренный и эрудированный исследователь способен выявить эти нормы на материале одного-единственного текста и по нему в какой-то степени реконструировать язык, для которого эти грамматические нормы актуальны. Однако это было бы скорее всего исключением, а правилом является то, что эти нормы выявляются путём анализа и сопоставления целого ряда типологически соотнесённых текстов. Безусловно, и состав, и методика выявления, и даже приёмы оформления данного «ключевого» блока неразрывно связаны со степенью зрелости и исследовательской эрудицией нотировщика.
Третий текстовый блок комплексной нотации — это традиционный аналитический комментарий к нотному образцу. В него входит вся та информация, которая не может быть выражена схематически. Это и сравнения с другими вариантами напева, и указания на степень типичности данного образца (вплоть до констатации его уникальности), а также любые другие аналитические данные.
И, наконец, ещё один блок сведений, совершенно необходимых для уяснения характера и индивидуальных особенностей записываемой музыки,— так называемый паспорт нотируемого образца, содержащий исчерпывающие сведения об условиях, месте и времени его фиксации (включая авторов фонозаписи и нотировки), а также «легенда», поясняющая контекстуально-ситуативные условия возникновения данного музыкального явления и его функционирования (исполнения).
Помимо перечисленных четырёх текстовых блоков, относящихся к единичному фольклорному образцу, в сборнике, в котором этот образец публикуется, желательно присутствие ещё двух аналитических блоков — более или менее развёрнутого текстологического исследования и системы указателей. Первый из них может быть реализован в рамках исследовательской статьи — вступительной или комментирующей, второй — как прилагаемый к сборнику справочный аппарат. В каждом из этих блоков читатель найдёт, помимо общей характеристики представленного в сборнике материала, весьма важные дополнительные сведения, касающиеся отдельных фольклорных образцов. В целом же это даст ему возможность отчётливо представить себе место, занимаемое каждым образцом в типологической структуре сборника и его взаимосвязи со всеми остальными публикуемыми материалами.
Указатели, систематизирующие различные параметры публикуемых образцов, составляются, как правило, на основе блока аналитических ключей и формул, сопровождающих каждый нотный текст. Комплекс таких указателей выполняет функцию своеобразного систематизированного «словаря» моделей, выведенных в результате анализа нотных материалов сборника. Помимо той роли, которую обычно играют подобные указатели в изданиях любого типа, то есть, кроме задачи облегчить поисковую работу, в целом они призваны представить, насколько это возможно, систему языка, которому принадлежат публикуемые в сборнике материалы.
И, наконец, последняя группа текстов, присутствие которых желательно в любом музыкально-фольклорном издании, должна выводить его материал в более широкий содержательный контекст. Это — исследовательское описание, характеризующее жанрово-стилевой состав и облик фиксируемой культуры, а также историко-культурологическое введение, задающее социокультурные параметры исследуемой традиции. Излишне было бы подчёркивать, что только в случае подобного выведения рассматриваемых образцов на общий историко-этнографический фон становятся по-настоящему корректными любые попытки содержательной интерпретации конкретных музыкально-фольклорных явлений.
Кратко описанный здесь комплекс текстовых блоков, составляющих в совокупности то, что только и может в полной мере соответствовать постаналитическому качеству нотаций, последовательно, на разных уровнях охватывает фиксируемое явление — от максимально достоверной фиксации самого звучащего материала до широкого социокультурного контекста, в который он погружён. Можно предположить, что заложенная таким способом в нотные сборники информация даст в дальнейшем возможность выйти на уровень исчерпывающего типологиче-ского изучения всего многообразия музыкально-фольклорных языков.
Предлагаемый способ комплексного представления музыкально-фольклорных материалов в какой-то мере предопределяет наиболее желательный тип фольклорных изданий. Ведущим критерием отбора образцов при этом становится ценность с точки зрения описания культуры. Но в то же время критерий этот вовсе не упраздняет принципы, традиционно кладущиеся в основу сборников народной музыки. Практически фольклорные сборники по-прежнему могут составляться по любому содержательному или формально-конструктивному принципу. Это могут быть и этно-региональные, и жанровые, и тематические, и любого другого рода подборки материалов, в том числе и такие, в которых различные принципы могут каким-то способом совмещаться. В любом случае постаналитическое качество самих нотировок и наличие исчерпывающего справочно-аналитического аппарата позволят материалам сборника так или иначе войти в общий аналитически упорядоченный и документально достоверный массив музыкально-фольклорных фактов.
Представим теперь схему предлагаемого комплексного типа музыкально-фольклорных публикаций в виде таблицы, где по вертикали располагаются аналитически выделенные параметры фольклорно-мелодического материала, а по горизонтали представлены рассмотренные выше блоки текстовых описаний.
Прежде всего, следует ещё раз оговорить, что предложенный набор аналитических параметров соответствует тем представлениям, которые сложились в теоретической фольклористике к настоящему времени. Помимо того, эти параметры актуальны лишь для исследования тех культур, которые, как это следует из фольклористической практики, в своих наиболее существенных проявлениях могут фиксироваться с помощью пятилинейной нотации. Учитывая непрекращающееся становление фольклористического знания и исторически меняющийся характер самой фольклорной культуры в целом, можно предположить, что этот набор аналитических показателей должен со временем видоизменяться применительно к развитию теории фольклора и её предмета. Особенно заметных изменений следует ожидать в результате исследования пока ещё малоизученных фольклорных стилей и целых традиций, поскольку эти исследования способны пролить свет на принципиально иные возможности функционирования и структуры фоль-клорных языков.
Тем не менее, приведённая таблица демонстрирует весьма широкие возможности современных постаналитических публикаций. По ней легко прослеживается, какие свойства фольклорного образца отражаются в самόм нотном тексте (разумеется, с использованием разного рода дополнительных знаков), а какие — в сопровождающих его словесно-пояснительных текстах. При составлении таблицы имелось в виду, что ряд свойств может быть описан двояко — ив нотных, и в словесных блоках. Там, где это происходит, информация оказывается взаимодопол-няющей, а не просто дублирующей. Та или иная особенность звучащего текста, попадая в различные слои (рубрики) описания, вводится тем самым во всё более широкий содержательный контекст. В результате выявляется степень значимости каждого параметра для характеризуемой таким образом культуры. При переходе из рубрики в рубрику каждый параметр описывается как бы иным способом, и, в конечном счете, достигаются многоаспектность и полнота описания, его многоуровневость, а это в свою очередь явится предпосылкой для достижения необходимой глубины последующего обобщения. Представление о культуре становится объёмным, и появляется возможность определить место и роль каждого элемента в составляющих её стилях.
Особенностью постаналитически-комплексной публикации прежде всего является наличие тех её блоков, в которых информация может быть представлена в виде обобщённых моделей (см. рубрику ключей, схем, формул, а также указатели). Работа с этими моделями позволяет выявлять синтагматику и парадигматику фольклорных языков. Поэтому в таблицу введены строки, специально ориентированные на сравнительные музыкально-лингвистические исследования (звукоряд, ритмическая структура, формула слогового ритма и т.д.). Особое внимание обращено на создание обобщённой линеарно-мелодической модели напева (см. VII группу параметров). Общая же совокупность рассматриваемых в таблице характеристик мелодики призвана в конечном счете дать представление о типологической конструкции фольклорного языка, уяснение которой окажется возможным только в результате широкого и пока ещё проблематичного сопоставления всего спектра фольклорных культур.
Последовательное рассмотрение параметров и рубрик данной таблицы составит план второй части настоящей работы. В ней мы постараемся осветить конкретные способы оформления текстов постаналитической нотации. Здесь же стоит затронуть ещё несколько общих вопросов, связанных с нотированием по предлагаемой методике. Оговоримся сразу, что эти вопросы выдвигаются лишь в плане их постановки, поскольку решение большинства из них, будучи предварительным, представляется достаточно спорным.
Предложенная итоговая таблица обнаруживает двойственный характер постаналитической нотации. В ней объединяются процедуры как аналитического расчленения, сегментирования фольклорного текста, так и синтезирования, обобщения. Это просматривается и в наборе параметров, образующих строки таблицы, и в содержании вертикальных блоков. То есть постаналитическая нотация не отвергает ни один из предшествующих типов нотирования — ни преданалитический («композиторский» и «транскрипционный»), ни собственно аналитический. Она вбирает их в себя в качестве оснований для синтезирующих обобщений.
Само качество синтеза, достигаемого в постаналитически-комплексной нотации, таково, что оно может на следующем этапе стать основанием для новых аналитических изысканий. Иначе говоря, дальнейшее развитие нотации представляется процессом диалектическим. Дело в том, что синтезирующие элементы комплексной нотации пока ещё не складываются в некоторый целостный текст «высшего порядка». Нотация всё ещё сложна, громоздка, трудна для прочтения во всей её полноте.
Разумеется, количество информации, закладываемой в современные фольклористические нотации, неизмеримо превышает объём нотаций предшествующих этапов. Однако эта информация рассредоточена по разным блокам, позволяющим прочитывать ее дифференцированно, в зависимости от конкретной задачи. Сама по себе нотная строка является основой для озвучивания, причём в неё вложено большинство отражаемых нотным текстом особенностей звучащего оригинала. Система ключей, схем и указателей не только подытоживает аналитические данные, но и является системой кодов-дешифраторов, поскольку каждый из выделенных уровней текста представлен набором типовых моделей и указывает способ их взаимодействия (функционирования).
Однако за всем этим видится новый, качественно более высокий тип нотации, нотации, в которой главным станет принцип новой простоты. Вероятно, одновременно с этим возникнут и новые способы фиксации музыкальных фольклорных текстов, при которых пятилинейная нотация займет иное место. Система записи должна преобразоваться в более обобщённую (новый синтез) и простую для прочтения, то есть для устной реконструкции стиля. Можно предположить, что такая система объединит в себе отдельные элементы предшествующих нотных систем, а также принципы наиболее обобщённых — «модельных» систем — невменных, буквенно-цифровых и т. д.
Иными словами, новая нотация видится как некий простой и целостный текст преимущественно проективной направленности. Рассматриваемая же здесь комплексная нотация займёт по отношению к ней место подготовительной.
Возникает вопрос: нельзя ли попросту миновать переживаемый ныне этап фольклорного нотирования, коль скоро он оказывается столь трудоёмким? Ответ в настоящее время должен быть всё-таки отрицательным. Тому есть несколько причин.
Человеческая культура нуждается в документации. Этот тезис следует принять за аксиому. Документирование может быть как бы стихийным, спонтанным, неосознанным, либо, напротив, научным, целенаправленным, призванным сохранять и развивать культурные ценности. Во втором случае документирование должно стать по-настоящему грамотным и иметь целью адекватное отражение фикси-руемых явлений.
Сформировавшийся к настоящему времени массив фольклористических нотаций сложился «естественным» путём — путём количественного накопления. Пришло время качественного скачка, который в первую очередь должен характеризоваться осознанной и чётко поставленной целью. В отечественной фольклористике уже на протяжении многих лет идёт подготовка к созданию крупных сводов национального фольклора. Есть примеры более или менее удачных антологических изданий и даже собственно Сводов, в которых эта идея находит практическое воплощение. В этих условиях усовершенствование и унификация языка фольклористических описаний становятся едва ли не решающей задачей. Во всяком случае, необходимость введения в общий культурный обиход громадного числа разноликих (в нотационном отношении — особенно) архивов, отбора наиболее ценных в эстетическом отношении образцов и представления их в общезначимом и общепонятном виде — все это выдвигает нотационные проблемы на первый план. Не решив этих проблем, нельзя сделать издаваемые сейчас своды истинными документами культуры. Их главное предназначение — отразить национальные фольклорные стили на том уровне адекватности, который доступен современной науке, ибо в документе культуры само явление и уровень его описания неразрывно связаны и одно без другого существовать не может.
Разумеется, никакая наука, в том числе и музыкальная фольклористика, не стоит на месте. И в этом смысле всякое издание, даже если оно выполнено на уровне высших теоретических достижений своего времени, устаревает применительно к новому этапу развития культуры. Именно поэтому столь привлекательной представляется идея «открытых» изданий, предусматривающих своего рода резервные зоны для последующего восполнения их результатами предстоящих теоретических обобщений.
С этой точки зрения разрабатываемая в настоящее время постаналитическая нотация содержит значительные возможности для последующего совершенствования, поскольку позволяет варьировать количество и взаимоотношения элементов, составляющих тексты описаний. С другой стороны, заложенные в ней принципы не исключают возникновения резервных зон, которые позволят описать ранее неизвестные или неполностью описанные явления. Такая нотация не задаёт жёстких требований к набору включаемых в неё компонентов и получает возможность гибко приспосабливаться к состоянию теории. Приведённый ранее упрёк Н.М. Лопатина в адрес сборника Прача мог бы стать «эпиграфом» к этой нотации, ибо призывает избегать приложения к фольклорному материалу теорий, способных создать завершённые, тупиковые ситуации в культурном функционировании документов фольклора.
Историческая необходимость развёртывания нотации в сторону её последовательной детализации и усложнения (а именно это и происходит на современном этапе) свидетельствует о том, что нынешняя теория ещё не в состоянии объяснить многие явления фольклорной культуры. Такая нотация является одновременно и способом познания фольклорной реальности, и теоретическим поиском, так как служит выработке специализированных теорий фольклора, «выводимых из самих напевов». И только на следующем этапе — этапе сложения более или менее полной и гармоничной системы таких теорий, вероятно, и появятся средства достижения «новой простоты», которой будут отмечены нотации будущего.
1 Об этом см. исследовательские статьи Е.В. Гиппиуса в кн.: Балакирев М. Русские народные песни. — М., 1957.
2 Транскрипция в данном случае понималась прежде всего в фонетическом смысле, т. е. как «способ письменной фиксации устной речи с помощью специальных знаков с целью возможно более точной передачи звучания» (Сов. энциклопедический словарь. — М., 1981. С. 1358).
3 Бражников М. Лица и фиты знаменного распева. — Л., 1984. С. 17.
4 Немаловажным дополнительным стимулом к записи народной музыки явились также потребности бытового музицирования горожан, которые, не будучи уже непосредственными носителями тра-диционной песенной культуры, испытывали тем не менее неослабевающий интерес к крестьянским песням.
5 Пискарёв А.И. Русские народные песни // Финский вестник. 1847. Т. 21. № 9.
6 Лопатин Н.М. и Прокунин В.П. Русские народные лирические песни / Под ред. B.Беляева. — М., 1956. С. 73.
7 Цит. по кн.: Русская мысль о музыкальном фольклоре / Сост. П.А. Вульфиус.— М., 1979. C. 355-356. В дальнейшем — РМОМФ.
8 Подобно закованным в латы рыцарям или зажатым в хитиновый панцырь насекомым, опусная музыка композиторов в известном смысле ограничена связывающим её нотным текстом, в отличие от музыки устных традиций, развивающейся по принципу обладающих гибким внутренним скелетом позвоночных. Конечно, такое сравнение не очень корректно и может вызвать искренний протест почитателей нотно-музыкальной классики. Однако, если разобраться, ничего обидного оно по существу не несёт и в то же время достаточно рельефно обнажает глубинно действующий принцип устного музыкального высказывания. Не случайно Бела Барток вводил в свои одноголосные фольклорные нотации вторую, «скелетную», строчку, высвечивающую внутренний смысловой стержень фиксируемой народно-песенной мелодии (об этом ещё будет сказано в дальнейшем).
9 По этому поводу читателя следует прежде всего адресовать к двум выпускам коллективного труда: Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. — М., 1981; Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. — М., 1983.
10 Ситуация скрытого двуязычия современной музыкальной культуры подробнее описана мною в статье «Музыкальный фольклор и музыкальная самодеятельность», опубликованной в сборнике «Народное творчество в культуре развитого социалистического общества» (М., 1984. С. 47-52). Кроме того, взаимодействию двух потоков музыкальной коммуникации — устного и письменного — посвящены специальные главы уже упоминавшейся монографии «Фольклор в контексте современной культуры. Рассуждения о судьбах народной песни» (М., 1988. С. 46-113).
11 Сокальский П.П. Русская народная музыка, великорусская и малорусская в её строении мелодическом и ритмическом и отличия её от основ современной гармонической музыки. — Харьков, 1888. С. 198.
12 Во второй части работы приведены результаты нескольких опытов параллельной расшифров-ки фольклорных образцов различными нотировщиками (см. примеры 45, 96-102).
13 В этом можно усмотреть известное сходство с проблемой поэтического перевода, при котором стремление к дословной точности, как правило, оборачивается в ущерб смыслу и художественным достоинствам. Как известно, не может быть двух совершенно одинаковых поэтических переводов, а требование восстановить оригинал даже по признанным самыми точными и совершенными его переводам является, строго говоря, абсурдным.
14 Подобные факты констатировал тот же П.П. Сокальский, объясняя их частично несовпадением высотных и ритмических интонационных нюансов народного исполнения с заранее заданными параметрами европейского нотного письма: «Мы укладываем песню в "темперированные" интервалы, то есть в другие тоны против тех, которыми поёт народ, что значительно ослабляет энергию, ясность, благозвучие и выразительность народного пения. Совершенно точно записанный напев, сыгранный на фортепиано, не удовлетворяет певца из народа; он находит какие-то перемены, что-то "так, да не так", чего он не может выразить» ( Сокальский П.П. Указ. соч. С. 198-199).
15 О повышенном воздействии конситуации на структуру устного высказывания, а также о самом этом вновь вводимом в лингвистику термине см.: Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. — М., 1981. С. 14 и далее.
16 Серов А.Н. Русская народная песня как предмет науки. — М., 1952. С. 36-37.
17 Там же. С. 35.
18 Один из наиболее красноречивых примеров этого оставила нам А.В. Руднева, предпринявшая на протяжении ряда последних лет жизни настойчивые попытки перепрочтения различно нотированных музыкально-фольклорных культур сквозь призму старинного обиходного лада.
19 Предрешающему воздействию письменного фактора на формирование и развитие западноевропейского музыкального искусства средних веков и современности уделяется специальное внимание в книге Курта Блаукопфа «Музыка в изменяющемся обществе» ( Вlauкорf К. Musik im Wandel der Gesellschaft. Grundzüge der Musiksoziologie. — Wien, 1983).
20 Seeger Ch. Prescriptive and descriptive music-writing // The Musical Quarterly. 1958. Vol. 44.
21 Никитина С.Е. Фольклористика, лингвистика, автоматизация: связи и перспективы // Количественные методы в музыкальной фольклористике и музыкознании.— М., 1988. С. 12-13.
22 Тюрин А.Ф. Рецензия на сборник М. Стаховича «Собрание русских народных песен» // Известия Академии наук по отделению русского языка и словесности. — Спб., 1855. Вып. 1. Т. 4.
23 Маранда П., Кёнгас-Маранда Э. Структурные модели в фольклоре // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. — М., 1985. С. 194.
24 Представления фольклориста, нотирующего фольклорный образец, формируются помимо того и ещё в двух планах: это комплекс представлений о фольклоре как об определённым образом функционирующем организме, и комплекс представлений о структуре фольклорного языка.
25 Превосходным примером такого рода исследования является работа Л.Н. Лебединского, посвященная исполнительскому мастерству Ф. Шаляпина. В серии специальных статей, опубликованных в 1960-1970-е гг., им были сопоставлены выполненные с фонограмм расшифровки шаляпинского пения с оригинальными авторскими текстами. Подробнее о результатах этой работы см.: Лебединский Л. Пять очерков о шаляпинском прочтении нотного текста // Мастерство музыканта-исполнителя. — М., 1972. Вып. I. С. 57-127.
26 Квитка К.В. О критике записей произведений народного музыкального творчества // Избранные труды. — М., 1973. Т. 2. С. 33.
27 Ланглебен М.М. О некоторых музыкальных системах и музыкальных нотациях древно-сти//Ранние формы искусства. — М., 1972. С. 432.
28 Квитка К.В. Указ. соч. С. 33.
29 В принципе безразлично, пользуется ли композитор чужой нотной строчкой или сам выступает как собиратель народных мелодий. Его композиторская установка обычно сказывается даже в том случае, когда он по памяти воспроизводит песню, усвоенную с голоса фольклорных исполнителей. Иное дело, если выдающийся музыкант оказывается способен сочетать композиторский и фольклористический подходы, как это наблюдалось, скажем, у Б.Бартока. Однако подобное органическое сочетание профессий является чрезвычайно редким и счастливым исключением.
30 См. первые три нотных примера в названной работе Л.Н. Лебединского (особенно с. 65-69, 101-104 и примечание 1 на с. 85).
31 Лопатин Н.М. и Прокунин В.П. Указ. соч. С. 65.
32 Линёва Е. Великорусские песни в народной гармонизации. — Спб., 1909. Вып. II. С. LXV.
33 Григорьев Ап.А. Русские народные песни: Критический опыт. (Цит. по: РМОМФ. С. 109).
34 Лопатин Н.М. и Прокунин В.П. Указ. соч. С. 73.
35 Одоевский В.Ф. Речь на открытии Московской консерватории (цит. по РМОМФ. С. 91).
* Эта страница восстановлена из архивной копии сайта автора http://eduard.alekseyev.org, недоступного с 2024 года.